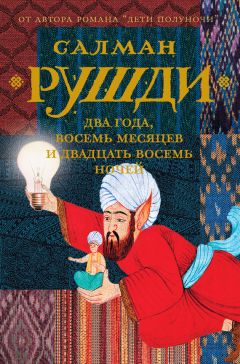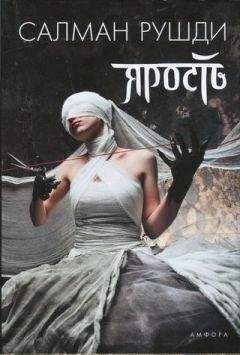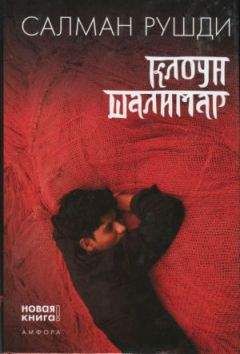Дунью эти слова глубоко задели.
– Хочешь сказать, – заговорила она, – что поскольку мы не состоим в браке, наши дети не получат отцовское имя?
Он улыбнулся, как всегда, печально и криво:
– Лучше им зваться Дуньязат, – ответил он, – это имя содержит в себе мир и не было осуждено миром. Если станут Рушди, от века будут мечены клеймом на челе.
С тех пор она стала рассуждать о себе как о сестре Шахерезады, которая все время просила еще историй, вот только ее Шахерезадой оказался мужчина, возлюбленный, а не родич, и за некоторые из его историй их обоих казнили бы, если б слова просочились наружу из темноты спальни. Так что он – Шахерезада навыворот, говорила ему Дунья, полная противоположность рассказчицы из «Тысячи и одной ночи»: та историями спасалась, а он подвергает свою жизнь опасности. Но когда халиф Абу Юсуф Якуб выиграл войну, одержав величайшую победу над христианским королем Кастилии Альфонсо VIII у Аларкоса, на реке Гвадиана, в которой его войска перебили 150 тысяч кастильских солдат, почти половину христианской армии, халиф принял титул Аль-Мансур, Победоносный, и с уверенностью героя-завоевателя положил конец могуществу фанатичных берберов и вернул ко двору Ибн Рушда.
Клеймо позора было стерто с чела старого философа, ссылка закончилась, он был реабилитирован, освобожден от позора и с почестями возвращен на прежнюю должность придворного врача в Кордове – через два года, восемь месяцев и двадцать восемь дней и ночей после начала ссылки, то есть на тысяча первый день. Дунья была, разумеется, снова беременна, и он, разумеется, не женился на ней, не дал, разумеется, детям свое имя и, разумеется, не взял ее с собой ко двору Альмохадов, так что она выпала из этой истории, которую философ, уезжая, забрал с собой, прихватив заодно свои халаты, булькающие реторты, манускрипты, иные в переплете, иные свитками – все это были рукописи чужих книг, поскольку его собственная была сожжена, хотя сохранилось множество копий, как он говорил Дунье, в других городах, в библиотеках друзей и там, где он заранее спрятал их на случай, если его постигнет черный день, ибо мудрый человек готовится к злосчастью, а вот благая фортуна, если человек, как подобает, скромен, застигает врасплох. Он уехал, не доев завтрак и не попрощавшись, и Дунья не угрожала ему, не раскрыла истинную свою сущность и скрытую силу, не сказала: «Я знаю, о чем ты болтаешь вслух во сне, когда допускаешь то, что, по твоим же словам, нельзя допускать, когда не пытаешься более примирить непримиримое и высказываешь страшную, роковую истину». Она позволила, чтобы история ушла и покинула ее, не пыталась удержать, как дети позволяют грандиозному шествию пройти мимо, удерживая его только в памяти, превращая в нечто незабываемое, навеки свое – так и она продолжала любить философа, хотя он с такой небрежностью ее покинул. Ты был всем для меня, хотела бы она ему сказать, ты был моим солнцем и луной, и кто же теперь положит руку мне на голову, кто будет целовать в губы, кто будет отцом нашим детям. Но он был великим человеком, и залы бессмертных ожидали его, а вопящая ребятня – всего лишь балласт, сброшенный на ходу с палубы.
Однажды, шептала она отсутствующему, однажды, когда ты давно уже будешь мертв, наступит миг и ты захочешь признать свое потомство, и тогда я, твоя жена-джинния, исполню твое желание, хоть ты и разбил мне сердце.
Считается, что она еще какое-то время оставалась среди людей, возможно, вопреки всему надеясь на его возвращение, а он посылал ей деньги и, быть может, изредка навещал; она отказалась от торговли лошадьми, но продолжала вкладывать деньги в тинахи, однако солнце и луна этой истории зашли над ее домом, и ее история превратилась сплошь в тайны и тени, так что, может быть, люди правду говорят – дескать, после смерти Ибн Рушда его призрак вернулся и зачал с ней новых детей. Говорили также, что Ибн Рушд подарил ей лампу, внутри которой находился джинн, и джинн-то и стал отцом тех детей, что родились уже после его отъезда – вот видите, как легко молва переворачивает все с ног на голову! А еще говорили недоброе: мол, одинокая женщина впускала в дом любого, кто готов был платить за крышу над головой, и от каждого съемщика снова рожала, так что Дуньязат, потомки Дуньи, уже не были незаконными Рушди (по крайней мере, часть их или даже значительная часть или даже бо́льшая), и в глазах большинства жизнь Дуньи превратилась в пунктир, заикающиеся расплывшиеся до бессмысленных очертаний буквы, из которых не извлечь, ни сколько она еще прожила, ни как, ни где, ни с кем, ни когда и как умерла – если умерла.
Никто не заметил – да и внимания не обратил – как в один прекрасный день она повернулась боком, проскользнула сквозь щель между мирами и вернулась в Перистан, в другую реальность, в мир снов, откуда джинны порой выходят тревожить человечество или ему благодетельствовать. На взгляд жителей Люцены она попросту растворилась, возможно – в дыме без пламени. После того как Дунья покинула наш мир, число путешественников со стороны джиннов к нам сократилось, потом они долгое время не появлялись вовсе, и щели между мирами зарастали ничего не говорящими воображению сорняками условностей и колючками скучного материализма, пока не сомкнулись полностью, и тогда наши предки были предоставлены самим себе – творите, что сможете, без преимуществ и проклятия волшебства.
Потомство же Дуньи процветало. Это мы вполне можем утверждать. Спустя без малого триста лет, когда евреи были изгнаны из Испании – даже те евреи, которые не смели называть себя евреями, – потомки потомков Дуньи взошли на корабли в Кадисе и Палос-де-Могер, или пешком перешли Пиренеи, или полетели на коврах-самолетах и в гигантских урнах, как родичи джиннов, они пересекали материки и переплывали семь морей, поднимались на высокие горы и спускались в глубокие долины и находили приют и убежище всюду, куда бы ни пришли, и они быстро позабыли друг друга, а может быть, помнили, пока могли, а потом забыли, или никогда не забывали и сделались семьей, которая уже не была единой семьей, племенем, которое нельзя было назвать племенем, они принимали всякую религию и не принимали никакой, многие из них, спустя столетия после обращения, не ведая о своем сверхъестественном происхождении, забыв историю о насильственном крещении евреев, сделались ревностными католиками, а другие – презрительными атеистами; это была семья без дома, но обретавшая дом повсюду, деревня, не обозначенная на карте, но переносившаяся с места на место, как растения без корней, мох, лишайник или ползучие орхидеи, которые цепляются за других, поскольку не могут устоять сами.
История недобра к тем, от кого она отворачивается, но бывает столь же недобра и к тем, кто ее творит. Ибн Рушд умер (традиционно, от старости, по крайней мере насколько нам известно) по пути в Марракеш всего через год после реабилитации; ему не довелось узреть, как его слава растет и распространяется за пределами знакомого мира в страны неверных, где его комментарии к Аристотелю стали прологом к великой популярности этого могущественного праотца философов, легли в основу безбожной мудрости неверных – их секулярной философии: saecularis означает то, что возникает раз в сто лет (saeculum), в одну из мировых эпох, или же этот эпитет указывал, что идея годится на многие века[2], и сама эта философия была точным слепком и эхом тех идей, какие Ибн Рушд отваживался высказать лишь во сне. Быть может, сам Ибн Рушд, человек набожный, не порадовался бы месту, которое отвела ему история, ибо для верующего в самом деле странная судьба – вдохновить учения, обходящиеся без веры, и тем более странная судьба для философии – восторжествовать за пределами того мира, где жил философ, и быть уничтоженной в границах его мира, поскольку в том мире, какой был известен Ибн Рушду, умножились и унаследовали царство идейные потомки его покойного противника Газали, а собственные незаконные отпрыски, позабыв запретное имя отца, распространились по иным странам. Большое число уцелевших добралось до великого Северо-Американского континента, а многие другие обосновались на великом Юго-Азиатском субконтиненте в силу феномена «агрегации», то есть таинственной нелогичности случайного распределения; из этих многие распространялись далее на запад и юг обеих Америк, на север и запад из бриллианта у подножья Азии, и так попали во все страны мира, ибо Дуньязат отличались не только ушами без мочек, но и беспокойными ногами. А Ибн Рушд был мертв, однако мы увидим, как он и его противник продолжили свой спор в могиле, ибо нет пределов спорам великих мыслителей, спор сам по себе – орудие совершенствования мысли, острейший из инструментов, рожденный из любви к знанию, то есть философии.
Восемьсот с лишним лет спустя, в трех с половиной тысячах миль от Люцены, и теперь уже более тысячи лет назад на город наших предков обрушилась буря, подобная бомбардировке. Их детство ушло под воду и было утрачено, набережные воспоминаний, где они когда-то лакомились сладостями и пиццей, променады желаний, где они прятались от летнего солнца и впервые целовались в губы. Крыши срывались с домов и летели под ночным небом, точно вспугнутые летучие мыши, а чердаки, где хранится прошлое, были обнажены всем стихиям, и казалось: все, чем люди были до тех пор, пожрано предательским небом. В затопленных подвалах утонули их тайны, ничего больше не припомнить. Энергия покинула их: настала тьма.