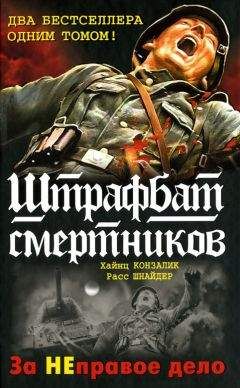– Но ведь ты, Отто, немец. Ты такой же немец, как и я Не могу поверить, что грядущее поражение нашей страны вызывает у тебя радость.
«Красный треугольник» поморщился.
– Не знаю… – сказал он. – Делать выбор всегда трудно. Я люблю Германию, но ненавижу Гитлера. Гитлер – безумец. – Отто посмотрел Хаузеру прямо в глаза. – Я уверен, что ты думаешь то же самое.
– Мы себе вождей не выбираем.
– Тем не менее это правда: он – безумец. Тебе пора перестать в него верить.
– Военный человек должен выполнять приказы.
– Ты один раз уже отказывался выполнить приказ. Потому что даже ты сражаешься во имя идеалов. Ложных идеалов. Абсолютно ложных. Тем не менее ты воюешь не ради самого себя. Ты борешься, потому что, как и я, думаешь, что завтра может быть лучше, хотя твои представления об этом лучшем завтра и не совпадают с моими.
– А что ты скажешь про себя?
– Мои идеалы совсем не такие, как твои. Они – правильные.
– Какие идеалы? Коммунизм? Ты и в самом деле веришь в коммунистические идеи? Наши генералы воруют, и тем же самым занимаются ваши главари. Мне иногда даже кажется, что между нами и вами нет никакой разницы. Сталин такой же безумец, как и Гитлер. Скажи мне, что это не так…
Отто хотел было возразить, но передумал и не стал этого делать.
– Объясни мне, Отто, какая разница между твоим понятием «рабочий класс» и моим понятием «Volk[73]»? Я большой разницы не вижу…
Они оба несколько минут посидели молча, разглядывая друг друга.
– Что ты делал до того, как пошел служить в СС? – вдруг спросил Отто.
Пауль фыркнул.
– Я покинул родительский дом в возрасте восемнадцати лет. Я терпеть не мог своего отца.
– Который у тебя сейчас генерал-майор?
– Он с моего раннего детства вдалбливал мне в голову, что я должен подчиняться дисциплине, исполнять приказы, соблюдать правила. Когда мне исполнилось шесть, он стал заставлять меня вставать в полшестого утра и обливаться ледяной водой. Затем я должен был ходить по лесу в течение двух или трех часов. Однажды я очень сильно простудился и едва не умер от воспаления легких…
– А твоя мать?
– Она была в ужасе. Отец меня то и дело бил. Порол ремнем. А мать… Она никогда не вмешивалась. Она не пыталась его урезонить. Я ее за это ненавидел.
Дерзкие глаза Пауля вдруг стали очень грустными: ему вспомнились давнишние, еще детские, обиды.
– Но почему… почему ты стал военным?
– Скажи мне, Отто, ты что, сам не догадываешься? Мы зачастую с неприязнью относимся к своим родителям, критикуем их и клянемся самим себе, что никогда не будем такими, как они… А затем совершаем точно такие же ошибки, какие совершали они.
– Но почему ты пошел служить именно в СС?
– Мой отец служил в вермахте. Офицеры и солдаты вермахта нас ненавидят. Они считают, что мы недисциплинированные и ненадежные вояки, что у нас нет воинских традиций, что политика, которую мы проводим, – неправильная. По правде говоря, Отто, мне кажется, что я пошел служить в СС только ради того, чтобы тем самым нанести тяжкую обиду своему отцу.
– Тебе, похоже, это не очень удалось, раз он пытается тебя спасти.
– Он желает мне добра – хотя, конечно, по-своему. А может, он хочет спасти меня только ради того, чтобы прочитать мне очередную лекцию. Между ним и мной никогда не было взаимопонимания.
– У тебя, по крайней мере, есть отец…
– Скажи мне, Отто, ты всегда думал только об этой своей партии?
– А ты – только об этом своем фюрере?
– Конечно, нет. У меня есть и другие интересы.
– Женщины?
– Мотоцикл.
Глаза Отто заблестели.
– Мотоцикл? А какой именно мотоцикл?
– «Цюндапп К750». Ты такой знаешь?
– У него четырехтактный двигатель с двумя оппозитными цилиндрами, – бойко ответил Отто. – Степень сжатия – 6,2 к 1, максимальная мощность – двадцать четыре лошадиные силы при шести тысячах оборотов в минуту, верхнеклапанное распределение, карбюратор «Солекс». Бак на двадцать три литра, максимальная скорость – девяносто пять километров в час. Это не мотоцикл, а чудо.
– Ты на нем ездил?
– Один раз. Такой мотоцикл был у одного моего приятеля из моего района. Но «БМВ П75» лучше.
– Ты шутишь! Он не стоит и половины «Цюндаппа».
– У «БМВ П75» карбюратор «Греции». Это тебе не какой-нибудь там «Солекс»!
– Сразу видно, что у тебя никогда не было мотоцикла с таким карбюратором. А рама? У «БМВ П75» рама всего лишь из прессованной стали. Смотреть не на что!..
– Ты погляди-ка, – тихо сказал Моше, сидя рядом с Элиасом на полу, шершавая поверхность которого была покрыта большими влажными пятнами. Моше показал Элиасу на оживленно беседующих друг с другом Пауля и Отто. – Раньше казалось, что они вот-вот друг с другом подерутся, а теперь…
– Как Моисей и Аарон. Они были очень разными, но при этом умудрялись друг с другом ладить.
– Ох уж мне эти немцы… Впрочем, если начать сравнивать Гитлера и Сталина, то я даже не знаю, кто из них хуже. Русские еще не закончили войну с нацистами, а уже нарываются на конфликт… А как хорошо жилось раньше! Ты помнишь, какой была Варшава до войны? Эх, красавица Варшава… Боюсь, что она очень сильно изменится.
– Будущего боится только тот, у кого совесть нечиста.
– Ты прав, Элиас. Моя совесть нечиста. Да она никогда и не была чистой… Знаешь, а я ведь тебя ненавидел.
Элиас, очень удивившись, уставился на Моше.
– Ты… ненавидел меня?
– Да. За то, как ты поступил с Идой. Я считал, что ты не имел права так поступать. Жертвовать ребенком не имеет права даже его родитель. Не имел такого права и ты.
Элиас ошеломленно смотрел на Моше.
– И Мириам я тоже ненавидел, – продолжал Моше. – Не любовь подтолкнула нас с ней друг к другу, а ненависть. Мы хотели тебя наказать и сделали это самым болезненным способом.
Элиас прилег на пол, положив голову на расстеленное одеяло, и закрыл глаза.
– Мне жаль, что так получилось, – сказал Моше. – Однако тогда, в гетто, я был уверен, что поступаю правильно.
Они оба минуту-другую помолчали.
– А сейчас? – спросил затем Элиас.
– Сейчас я еще больше убежден в том, что никто не имеет права жертвовать жизнью другого человека. Ни при каких обстоятельствах.
Элиас вздохнул.
– Да, жизнью другого человека жертвовать нельзя, – сказал он, не глядя на Моше. – Теперь это понял и я. Поэтому я не собираюсь участвовать в этом абсурдном выборе того, кого отправят на расстрел. Ты согрешил передо мной, и я не могу тебя простить. Но ты открыл мне глаза. Я заслуживал суровой кары. Возможно, Бог выбрал ее для меня именно такой.
– Бог не имеет к этому никакого отношения, Элиас.
– Бог всегда имеет отношение ко всему. Даже сейчас, когда он, казалось бы, совсем о нас забыл. Ты предал друга. А я… – Элиас вздохнул, а затем резко открыл глаза и впился взглядом в Моше. – Я предал дочь. Твоя вина не такая тяжкая, как моя.
Моше задумчиво посмотрел на Элиаса.
– Возможно, у нас не получилось бы устроить ей побег, – сказал он. – А может, Иде все равно удалось спастись…
Элиас отрицательно покачал головой.
– Это не смягчает горечи ни той ошибки, которую совершил я, ни той ошибки, которую совершил ты. Только Бог может быть нам судьей… и, возможно, он нас простит.
Элиас с трудом поднялся с пола, потер себе ладонями ноги и встал на колени. Из-под своей лагерной униформы он достал клочок потертой материи и положил его себе на голову. Затем он наклонился вперед так, чтобы его лоб слегка коснулся пола.
– Отойди-ка в сторону. Мне нужно помолиться.
– Взгляни-ка на них, – сказал Яцек, показывая на Моше и Элиаса Берковицу, лежавшему рядом с ним на одеяле. – Они, похоже, уже не испытывают друг к другу такой неприязни, как раньше.
Берковиц приподнялся на локте, надел очки и бросил взгляд в сторону Моше и Элиаса.
– Да уж, – сказал затем он. – Похоже, что так.
– Когда их привели сюда, в этот барак, они друг друга ненавидели, а теперь…
– Близость смерти может оказывать на человека странное воздействие. Кто-то становится трусом и подлецом, кто-то, наоборот, героем.
– Мне раньше не верилось, что я и в самом деле могу умереть.
– Никому в это не верится. Не верится до тех пор, пока тебя не потащат в газовую камеру.
– Ты тоже думал, что никогда не умрешь.
– Большие деньги порождают такое ощущение.
– А то, что ты говорил раньше, это правда?
– Относительно золота? Мне удалось его много вывезти в Швейцарию, мне помог один мой друг. А еще мне удалось припрятать кое-какие деньги в другом месте, причем очень надежном… Не знаю, смогу ли я их использовать, находясь здесь, в лагере. Это как пистолет, который лежит в запертом ящике, а ключа от ящика у тебя нет.
Яцек, приподнявшись на локте и повернувшись к Берковицу, сказал тихим голосом:
– К деньгам обязательно сумеет добраться тот, кто очень-очень захочет это сделать. Я дружу со многими местными офицерами. Я могу достучаться даже до самого Брайтнера.
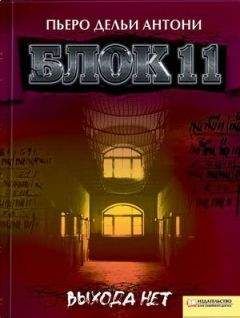
![Мэри Кларк - Молчаливая ночь [with w_cat]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)