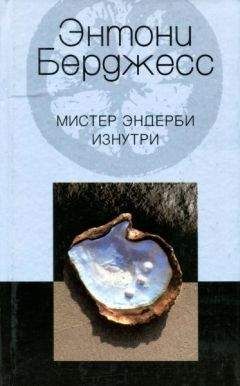Ознакомительная версия.
– Эй вы, охолоните!
Поднялся экскурсовод и заговорил по-французски, заявив, что младенцем в школе его учили садиться на изначально отведенное место. Эндерби кивнул: по-французски это звучало разумно и цивилизованно. На американский английский экскурсовод перевел свое увещевание так:
– Как будто вы в школе, сидите на своем месте и не высовывайтесь, не старайтесь захватить чужое. О’кей?
– Кем вы себя возомнили, черт побери? – тут же вскинулся раскрасневшийся Эндерби. – Папой римским?
Это был извечный протест англичанина против иностранной надменности.
– Почему бы тебе не держать твой большой рот… – начала Веста.
Слова Эндерби быстро оказались переведены на многие языки, и все повернулись посмотреть на него – одни с удивлением, другие с сомнением, а третьи со страхом. Но один пожилой мужчина в сером, эдакий элегантный резонер, встал сказать по-английски:
– Нам сделали выговор. Он напомнил нам о цели нашей поездки. Нельзя допустить разобщения католической Европы.
Он сел, и пассажиры взглянули на Эндерби теплее, а одна сморщенная коричневая старушка даже предложила ему кусок бельгийского шоколада.
– О чем это он? – спросил Эндерби у Весты. – Он сказал, цель нашей поездки. Мы же на озеро едем, да? Какое отношение озеро имеет к католической Европе?
– Увидишь, – успокоила Веста и добавила: – Думаю, в конце концов будет лучше, если ты все-таки поспишь.
Но теперь Эндерби не мог задремать. Мимо скользила сельская местность, сверкали далекие городки на высоких залитых солнцем плато, неслись оливы, виноградники и кипарисы, виллы, покоричневевшие поля, бесконечное голубое небо. Наконец показалось озеро, огромная белая водяная гладь, которая смягчала полуденный зной; на берегу – постоялый двор. Экскурсовод, который молчал и дулся от того, что Эндерби его окоротил, наконец подал голос:
– Остановка два часа. Автобус будет припаркован на стоянке для автобусов. – Он сделал римский жест-закорючку в неведомом направлении.
Когда чета Эндерби сходила, он состроил сизо-подбородковую хмурую римскую мину, а ведь Эндерби бросил ему:
– Никаких обид, ладно?
И совсем уж окаменел, когда Эндерби сказал:
– Ma e vero che Lei ha parlato un poco pontificalmente[41].
– Пошли, – сказала Веста.
От серебристой воды веяло прохладой, но к немалому удивлению Эндерби никто не спешил ею насладиться. Сходя с автобусов, толпы устремлялись на холм к городку за стеной. Автобус за автобусом извергал совсем непраздничных людей, серьезных, благочестиво перебирающих четки. Тут были точеные африканцы, стайка китайцев, косяк финнов, хоровод жующих американцев, пожимающих своими epaules[42] французов, встречались также редкие светловолосые викинги и их богини, – и все поднимались на холм.
– Мы тоже поднимемся, – сказала Веста.
– А что там, на холме? – тщательно выговаривая слова, спросил Эндерби.
– Идем. – Веста взяла его под руку. – Прояви чуточку поэтического любопытства, пожалуйста. Пойдем и узнаешь.
Эндерби почти догадывался, что ждет в конце дороги, по которой они начали подниматься, уворачиваясь от прибывающих с визгом шин автобусов, но позволил себя вести мимо улыбающихся торговцев фруктами и образками. На мгновение он в ужасе замешкался, увидев портрет размером с игральную карту, который повторялся более пятидесяти двух раз: поначалу ему показалось, что это с картинки благословляет портретиста его мачеха в одеждах святого, но быстро сообразил, что это не она.
Его, отдувающегося, подвели к массивным воротам, а через них – во двор, уже набитый битком и наэлектризованный. Позади них с Вестой решительно поднимались новые толпы. Ловушка, ловушка! Он не сможет выбраться! Но тут раздался священный рев, от которого, казалось, содрогнулся сам холм, и усиленный громкоговорителем голос очень быстро заговорил на очень быстром итальянском. Голос шел как будто бы из ниоткуда, открытые в экстазе рты впитывали его вместе с воздухом, черные глаза выискивали голос над высокой штукатуркой бежевых стен, где в вышине ставни были распахнуты жару, деревьям и небу. Радость от громких неразборчивых слов наполняла щетинистые лица. Занялся крик и был подхвачен крик:
– Вива, вива, вива!
– Так это он, да? – спросил Эндерби у Весты.
Она кивнула. Теперь возбудились французы: навострили уши, приоткрыли от радости рты, точно голос объявлял фантастические авиарейсы: Тулон, Марсель, Бордо, Авиньон.
– Браво! – Эхо разнесло артиллерийские очереди криков по холмам, а оттуда к небесам. – Браво, браво!
Эндерби был напуган, сбит с толку.
– Что, собственно, тут происходит? – крикнул он.
Теперь голос заговорил на американском английском, приветствуя паломнический контингент из Иллинойса, Огайо, Нью-Джерси, Массачусетса, Делавэра. И Эндерби почувствовал, как холодные мертвенные руки шарят по всему его горячему телу, когда увидел ритмичные сигналы чирлидера, молодого человека в новой шерстяной фуфайке с большой вышитой голубой буквой «П».
– Род-Айленд, – говорил голос. – Кентукки, Техас.
– Ура, ура, ура! – раздались ответные крики. – Папа, папа, папа!
– О боже, нет! – застонал Эндерби. – Бога ради, дайте мне отсюда уйти!
Со слабыми извинениями он попытался протолкаться прочь, но толпа сзади стояла стеной, устремив глаза ввысь, на бежевую штукатурку, и он наступил на ногу маленькой французской девочке, та заплакала.
– Гарри, – резко сказала Веста, – стой, где стоишь!
– Миссисипи, Калифорния, Оклахома, – звучала литания из стиха святого Уолта Уитмена.
– Ура, ура, ура! Папа, папа, папа!
– О Господи Иисусе! – рыдал Эндерби. – Пожалуйста, дай мне уйти, пожалуйста! Мне нехорошо, я болен, мне нужно в уборную.
– Воинствующая церковь тут, а тебе только и нужна уборная.
– Нужна, нужна…
Со слезами на глазах Эндерби теперь схватился с потным испанцем, который не давал ему пройти. Французская девочка все плакала, тыча пальчиком в Эндерби. Внезапно раздался призыв к молитве, и все начали опускаться на колени в пыль двора. Эндерби превратился в бешеного учителя, в море пораженных детей. Его жена тоже преклонила колени. Веста стояла на коленях. Она стала на колени со всеми.
– Вставай! – завыл Эндерби, потом по-сержантски гаркнул: – Поднимайся с чертовых колен!
– Преклони колени, – приказала она, из ее глаз словно бы лился зеленый яд. – Встань на колени. На тебя все смотрят.
– О боже мой! – плакал и взывал Эндерби, молясь и борясь против течения.
И стал выбираться, высоко поднимая ноги, точно шагал в патоке. Он наступал на колени, юбки, даже на плечи и был повсеместно проклинаем даже теми, кто молился с пугающей искренностью, с глазами, увлажненными молитвой. Спотыкаясь, проклиная в ответ, неуклюже и по-гусиному ступая, по-епископски возлагая длани на головы, он продрался через гигантский пирог коленопреклоненных и достиг – с тошнотой в горле, слепой от пота – ворот и дороги за ними. Спотыкаясь вниз с холма мимо улыбчивых торговцев, он бормотал себе под нос:
– Какой я дурак, что приехал!
С вершины последовал вздох громкого и дружного «аминь».
– «Сефил унесди», – лопотал пьяница. – «Тотхи мема». «Кардифа-сити»[43].
У него было удивленное львиное лицо прокаженного, хотя и без гривы, лишь несколько волнистых прядок ползли по голому скальпу. Не сводя глаз с Эндерби, точно убежденный, что Эндерби хочет его загипнотизировать, и слишком вежливый (а) чтобы протестовать, мол, не хочет, чтобы его гипнотизировали, и (b) заявить, что гипноз – это сущая чепуха, он то и дело дерзким движением подносил окурок к губам, затягиваясь с отчаянным стоном, точно это единственный источник кислорода, а он – умирающий.
– Tutti buoni[44], – покивал над своим вином Эндерби. – Весь футбол очень хорошо.
Схватив Эндерби за левую руку, львинолицый выдавил безрадостную улыбку глубокого кровнобратского понимания. Они сидели за грубо сколоченным столом на открытой веранде. Тут фраскати достигало своего последнего вздоха дешевизны – золотые галлоны за несколько кусочков звякающего металла.
– «Вес-Бромвич», – продолжал свою литанию пьяница. – «Манчестер-лунайтек». «Уондерскинс»[45].
Хотя она бодрила чуть больше географических манифестов на холме, но уже начала утомлять Эндерби. Интересно, может, этрусский язык взаправду так звучал? Было слышно, как по главной дороге, за темными и безымянными деревьями, составлявшими стену этого постоялого двора, крышей которому служили небеса, паломники спускаются к своим автобусам, идут медленно и с достоинством после комичных кульбитов с крутого холма. Если у Весты есть хотя бы толика здравого смысла, она сообразит, где его искать. Впрочем, в нынешнем его настроении ему особо не было дела, найдет она его или нет. Рядом с львинолицым и его футбольной литанией развалился патриот, который не верил, что Муссолини взаправду мертв: как король Артур, он восстанет с обнаженным мечом и отомстит за новые обиды своей страны. Этот говорил, что англичане всегда были друзьями Муссолини: итальянцы и британцы рука об руку сражались, чтобы изгнать поганых тедеско[46]. Он часто кривил одну сторону лица на Эндерби, поднимал большой палец, точно император на играх, и заговорщицки подмигивал. Были тут и другие выпивохи, многие с плохими старческими зубами, а у одного на плече сидел неухоженный попугай, пронзительно вопивший отрывок из арии Беллини. Была еще очень грудастая деваха, сельская красотка по имени Биче, которая разносила вино. Иными словами, недостатка в обществе Эндерби не испытывал и не испытал бы впредь. Он жалел лишь, что его итальянский недостаточно хорош. Но он бормотал «Блэкберн роверс» и «Ньюкастл юнайтед» львинолицему, а патриоту – Аддис-Абеба и «Ля фанкьюлла с Золотого Запада»[47]. Тем временем по ту сторону озера с исключительной нежностью заурчал гром.
Ознакомительная версия.