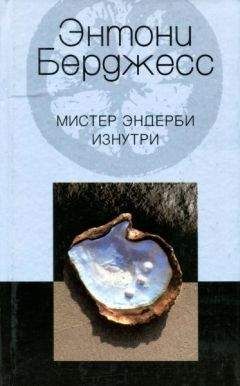Ознакомительная версия.
Он прикончил пузырек за шесть или семь горстей, которые тщательно запивал. Потом со вздохом откинулся на спину. Оставалось только ждать. Он совершил самоубийство. Он убил себя. Изо всех грехов самоубийство самый омерзительный, поскольку самый трусливый. Какая кара ждет самоубийцу? Будь тут Утесли, он, несомненно, процитировал бы из дантова «Ада», и притом пространно, с чувством собственного права: как-никак он внес свой вклад в итальянское искусство. Эндерби смутно припомнил, что самоубийцам отведен второй пояс седьмого круга ада, между теми, кто чинил насилие своим ближним, и теми, кто учинил насилие против Бога, искусства и природы. По праву в том кругу место самому Утесли, возможно, он уже там. Все это, думал Эндерби, Грехи Льва. Закрыв глаза, он совершенно ясно увидел кровоточащие деревья, воплощавшие самоубийц, а вокруг них кружили гарпии, гремя сухими крыльями – звук походил па клацанье таблеток аспирина в пузырьке. Он нахмурился. И где же тут уединение? Какое-то слишком уж публичное место. Он же выбрал второй пояс, чтобы избежать третьего, а обоим грехам разом отведен почему-то один круг…
С бесконечными деликатностью и тщанием предвечерний свет пронизывал мироздание все более и более темных тонов серого. Часы на запястье у Эндерби бодро тикали – чересчур вышколенный слуга, который возвестит о смерти так же невозмутимо, как о наступлении дня и подаче завтрака. На Эндерби навалилась огромная усталость, в ушах у него гудело.
Фанфары громких ветров, космический рев спускаемой в сортирах воды. Тьма перед его глазами срезалась кружок за кружком, как черный хлеб до самой корки буханки. А эта корка начала вращаться. И становилась все ярче с каждым оборотом, пока не сделалась ослепительней солнца. Эндерби обнаружил, что у него нет сил укрыться за простыней, руками или веками. Круг потрескивал от невыносимого свечения, а потом Эндерби потащили под бодрые, но почему-то архангельские крики пред чьи-то божественные очи. И эта божественная сущность, благожелательно явившая себя поначалу константой чистого разума, внезапно обрушилась на все органы чувств Эндерби, и он отшатнулся.
Это была она. Она приветствовала его громовым пердением в десять тысяч землетрясений, рыганием в миллионе вулканов, и вся вселенная ревела от одобрительного смеха. Она качнула на него титьками как обвисшие луны, раздвинула бесконечную змею рта, как слезает с куска сала кожа, показывая черные зубы, забросала его шариками ушной серы и высморкала в него зеленой слизью из носа. Престолы и троны ревели, а херувимы были бессильны. Эндерби задыхался от вони: сероводород, немытые подмышки, вонь изо рта, фекалии, застоявшаяся моча, гниющая плоть – все они хлюпающими шарами набивались ему в ноздри и в рот.
– Помогите… – попытался позвать он. – Помогите… помогите… помогите!
Он упал, царапая и плача.
– Помогите, помогите!
Чернота – сплошной смех и грязь – сомкнулась над ним. Издав последний вопль, он ей поддался.
– Больше мы ведь пытаться не будем, верно? – говорил доктор Гринслейд, психиатр. – Ведь теперь мы понимаем, что это только причиняет уйму хлопот другим людям. – Он просиял – моложавый толстяк в не слишком чистом белом халате, с нездоровой кожей сладкоежки. – Например, у нашей бедной старой домохозяйки от этого с сердцем лучше не стало, верно ведь? Ей пришлось бегать вверх по лестницам, потом вниз по лестницам… – Он проиллюстрировал, пробегая пальцами по воздуху, как по ступенькам, вверх-вниз. – …И она была в крайнем волнении, когда наконец прибыла «Скорая». Нам надо думать о других, правда? Мир ведь не создан для нас одних и никого больше.
Эндерби ежился от этой няничкиной подмены вежливого обращения множественной формой единственного числа.
– Каждый причиняет хлопоты, когда умирает, – пробормотал он. – Этого не избежать.
– Но вы-то не умерли, – подхватил доктор Гринслейд. – Когда люди умирают заведенным порядком, они причиняют хлопоты заведенные и неспешные, которые никому не во вред. Но вас-то едва-едва поймали в последний момент. А это означало суету и хлопоты для всех, особенно для вашей бедной старой домохозяйки. А кроме того, – подавшись вперед, он понизил голос, – в вашем-то случае это была не честная смерть, а? Это была… – он прошептал грязные слова, – попытка самоубийства.
Эндерби понурился, поскольку такой была ожидаемая клишированная реакция.
– Мне очень жаль, – сказал он, – что я так напортачил. Не знаю, что на меня нашло. Нет, кое-что, конечно, знаю, но будь я храбрее, постарайся перетерпеть, я, наверное, смог бы уйти на ту сторону, если понимаете, о чем я. Я про видение ада говорю, явившееся, чтобы меня попугать. Страшилы и все такое. Это было нереально.
Доктор Гринслейд тактично потер руки.
– Вижу, – сказал он, – впереди нас ждет много веселья. Хотя, к несчастью, не для меня. Тем не менее я буду получать отчеты Уопеншо. Там чудесное местечко, – мечтательно продолжал он, – особенно в это время года. Вам понравится.
Слова доктора Гринслейда прозвучали как из уст какого-нибудь диккенсовского персонажа, говорившего про могилу любимого ребенка-идиота.
– Где? – подозрительно спросил Эндерби. – Что? Я думал, меня выписывают.
– О боже ты мой, нет! – откликнулся шокированный доктор Гринслейд. – Здоровые люди не пытаются совершить самоубийство, знаете ли. Во всяком случае, хладнокровно и преднамеренно. А вы, знаете ли, его планировали. Престон-Хоукс сказал мне, что планировали. Это был не просто безумный импульс.
– Нет, не безумный, – мужественно сознался Эндерби, – а совершенно рациональный. Я отдавал себе отчет, что делаю, и привел вам совершенно логичные причины почему. – Он брюзгливо рыгнул: – Греее-кх. Ваша больничная кормежка просто страх.
– В Флитчли прекрасно кормят, – продолжал мечтать доктор Гринслейд. – Все там прекрасно. Чудесный сад для прогулок. Настольный теннис. Телевизор. Библиотека успокаивающих книг. Приятное общество. Вам будет жаль уходить.
– Послушайте, – спокойно сказал Эндерби. – Я не поеду, понимаете? У вас нет права держать меня тут или куда-либо посылать. Я в полнейшем порядке, понимаете? Я требую дать мне свободу!
– А теперь-ка, – сказал доктор Гринслейд сурово, меняя тон с няничкиного на учительский, – давайте проясним пару вещей, идет? В этой стране есть определенные законы касательно душевных заболеваний, законы о принудительном лечении, освидетельствовании и так далее. В вашем случае эти законы уже приведены в действие. Мы не можем позволить, чтобы люди слонялись по всей стране, пытаясь покончить с собой.
Эндерби закрыл глаза и увидел, как Англия кишит – как кишит мокрицами старый ствол – скитающимися самоубийцами.
– Вы представляете опасность для себя самого, – сказал доктор Гринслейд, – и для общества. Человек, не уважающий собственную жизнь, и к чужой отнесется без уважения. Это только логично, так?
– Нет, – тут же ответил Эндерби.
– Ах да, конечно, – саркастически откликнулся доктор Гринслейд, – вы же у нас большой эксперт по части логики.
– Я ни на что не претендую, – громко сказал Эндерби, – только на то, что я поэт, которого покинуло вдохновение. Я – пустая яичная скорлупа.
– Вы образованный, культурный человек, – строго ответил доктор Гринслейд, – который может принести немалую пользу обществу. То есть когда вам помогут поправиться. Надо же такое выдумать, пустая яичная скорлупа! Поэты! – Он почти фыркнул. – Дни наивного романтизма прошли. Мы живем в реалистичную эпоху. Наука идет семимильными шагами. Что до поэтов, – добавил он со внезапной захлебывающейся доверительностью, – я был знаком с одним поэтом. Приятный такой, приличный малый без большого самомнения. И стихи писал тоже приятные, которые нетрудно было понимать. – Он посмотрел на Эндерби так, точно его поэзия была и неприятной, и невразумительной разом. – У этого человека не было ваших привилегий, – продолжал доктор Гринслейд. – Никакого личного состояния, никакой уютной квартирки на приморском курорте. У него были жена и семья, и он не стыдился работать, чтобы их прокормить. Свои стихи он писал по выходным, да, да. – Он покивал Эндерби, поэту в рабочие дни. – И в нем не было ничего ненормального, ровным счетом ничего. Он не ходил с омаром на веревочке, и не женился на собственной сестре, и не запивал кларетом перец. Он был приличным семейным человеком, которого вообще никто не принял бы за поэта.
Эндерби ужасающе застонал.
– И его стихотворение, – добавил доктор Гринслейд, – было во всех антологиях.
– Если он был таким нормальным, то почему у вас очутился? – спросил Эндерби, подавив желание завыть.
– Это было чисто светское знакомство, – победно улыбнулся доктор Гринслейд. – А теперь, – сказал он, глянув на часы над головой Эндерби, – вам лучше возвращаться к себе в палату.
Ознакомительная версия.