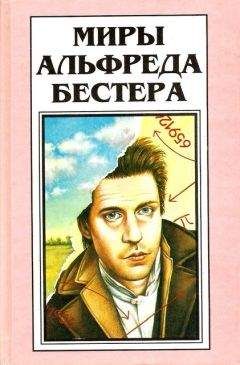– Однако мои планы – не пустые мечты. В подходящий момент моей карьеры я женюсь…
– Да? Я как раз хотел спросить. А позволено ли мне узнать – молодая леди уже выбрана?
– Каким же это образом? По-вашему, я намерен изображать Ромео с какой-нибудь Джульеттой? Дайте мне лет десять, и юная особа, моложе меня годами десятью или двенадцатью, из хорошей семьи, богатая, красивая…
– Которая ныне пребывает в детском возрасте.
– Именно так.
– Желаю вам счастья.
Я засмеялся:
– Вы будете танцевать на моей свадьбе.
Возникла пауза. Чарльз больше не улыбался.
– Я не умею танцевать.
Коротко кивнув, он ушел и скрылся под полубаком. Я повернулся, дабы поприветствовать мистера Преттимена и его нареченную, но увидел, как они удаляются на шканцы. Я возвратился в свою конуру и уселся перед пюпитром, думая, что такого рода беседу до́лжно записать в дневник. И еще о том, какой приятный человек Чарльз Саммерс и как близко мы с ним сошлись.
Все это было вчера. А сегодня утром? Ничего не происходило. Я ел невкусную еду; пить отказался, потому что и так пью слишком много; разговаривал, или, скорее, односложно отвечал Олдмедоу, который никак не может найти занятие своим людям; проигнорировал Зенобию Брокльбанк, поскольку она взяла в обычай беседовать с матросами… После я обнаружил, что снова сижу перед бескрайним белым полем, и голова моя пуста. Подумать только, я могу описать лишь одно, да и то неинтересное событие! Минуту назад я встретился на палубе с Чарльзом Саммерсом. Он сказал, что ветер крепчает, а я ответил, что не замечаю увеличения скорости. Он серьезно кивнул:
– Знаю. Скорость должна бы увеличиться, но нас задерживают наросты. Мы слишком долго пробыли в штиле.
Я подошел к борту и заглянул вниз через перила. Водоросли были хорошо видны – этакие зеленые пряди. Когда судно накренилось, под ними появились тени – пряди имели продолжение, но другого цвета. Потом начался крен в другую сторону: по воде поползли полосы зелени, которые тут же подняло волной, а затем все они вильнули к корме – судно все-таки продвигалось вперед.
– Можно ли избавиться от этого безобразия?
– Если бы мы стояли на якоре, воспользовались бы тралом. Зашли бы в какую-нибудь бухту, откренговались бы и почистились.
– В этих водах все корабли так обрастают?
– Все, кроме новых, современных, что построены в девятнадцатом веке. Теперь днища покрывают медью, а на ней всякой морской поросли труднее зацепиться.
– Какая незадача.
– Вам не терпится достичь Антиподии?
– Время как будто остановилось.
Саммерс улыбнулся и ушел. Я напомнил себе о своем новом развлечении и вернулся в каюту. И вот что следует заметить о ведении журнала, который кроме меня никто не станет читать: решение во всем за мной! Захочу – и ни о чем не стану заботиться. Мне незачем оглядываться вокруг в поисках острот, которые развлекли бы крестного, или, как бывало раньше, следить, не забыл ли я повернуться лучшим боком, словно невеста, когда позирует для свадебного портрета.
Я был, пожалуй, слишком откровенен, заполняя дневник для крестного; боюсь, вместо того, чтобы удостовериться в крепости моего характера, крестный поддастся буквальному значению моих слов и сочтет меня недостойным своего покровительства. Разрази меня гром, если я вижу выход из этого положения: невозможно уничтожить написанное, не уничтожив подарок крестного вместе с его излишне роскошным переплетом. Я глупец. Нет, просто совершил ошибку.
Камбершам и Деверель подбивали Саммерса убедить капитана Андерсона, что целесообразней изменить курс и направиться к заливу Ла-Плата, где можно откренговать судно и очистить днище от наростов. Меня о том осведомил юный мистер Тейлор, более чем энергичный гардемарин, который иногда прикомандировывает себя ко мне.
Саммерс, однако, заниматься этим не захотел. Ему известно, что Андерсон намерен совершить путешествие без заходов в порты. Приходится признать: Саммерс – хотя он и хороший человек, и отличный моряк – не желает ни в чем противоречить капитану. По словам мистера Тейлора, старший офицер отказал Камбершаму и Деверелю, заметив – и сегодня утром это, несомненно, было правдой, – что ветер значительно усилился, вследствие чего слегка увеличилась и наша скорость. Ветер все так же дует в левую скулу, горизонт чуть потускнел по сравнению с прежним, и на палубу время от времени летят брызги. Вся команда и все пассажиры этим счастливы. Дамы положительно цветут здоровьем.
Нужно иметь в виду, что между последним словом первой записи и тем, что я пишу нынче, минуло три дня. Меня прервали. О боги, как болит голова, стоит хотя бы слегка ее повернуть. Нет сомнений, полученный удар был чертовски силен, совершенно неожиданный удар. Я ухитряюсь писать, лежа в койке – Филлипс дал мне доску, которую я положил на колени, и вдобавок, выражаясь его словами, он подоткнул мне спину одной или двумя твердыми как камень подушками. Думаю, надобно упомянуть, что к счастью – или к несчастью, – корабль, насколько можно заметить, слегка продвигается, хотя ветер и толкает его обратно в штилевую полосу, двадцать тысяч чертей ему в глотку! Таким манером мы достигнем Антиподии, когда там будет в самом разгаре зима – перспектива, не привлекающая ни меня, ни моряков, которые наслышаны о том, как страшен в это время года Южный океан.
Стоило мне поправиться настолько, что я смог чертыхаться, меня немедленно навестил Саммерс и с вымученной улыбкой сказал, что капитан Андерсон отверг предложение направиться к Ла-Плата, но согласен на мыс Доброй Надежды – если доберемся.
– Выходит, нам угрожает какая-то опасность?
Саммерс ответил не сразу.
– Небольшая. Как обычно. Только прошу вас…
– Не распространять панику среди других пассажиров.
Он рассмеялся.
– Вам, видно, уже лучше.
– Если бы только я добился согласия между языком и мыслями! Знаете, Чарльз, я разговариваю сам с собой.
– Это последствия контузии. Вам обязательно полегчает. Только прошу вас, впредь не проявляйте столь безоглядного героизма.
– Вы надо мной смеетесь.
– В любом случае ваша голова таких ударов больше не вынесет, не говоря уж о позвоночнике.
– Истинная правда – головная боль тут как тут, словно на заказ – и уходить не желает. Стоит мне только повернуть голову, как… Черт подери!
Он ушел, я же поставил себе задачей записать наше приключение. Итак, я сидел за пюпитром и забавлялся сочинительством, а угол наклона палубы начал меняться. Поскольку в последние дни наше судно с утомительным постоянством выписывало зигзаги, или поворачивалось, или меняло галс, или как там это правильно зовется на языке морских волков, то я вначале не обратил внимания. Но затем седалище мое (которое уже стало бывалым мореходом) почувствовало, что изменение положения происходит быстрее, чем обычно. Вдобавок не было всегдашних сопутствующих обстоятельств, как то: гудки боцманской дудки, понукания в адрес вахтенных, шлепанье босых ног и хлопанье парусов. Вместо этого сверху, с мачт, на нас вдруг обрушился самый настоящий грохот, который тут же прекратился; немедля вслед за ним мой бывалый мореход дал мне знать, что палуба клонится все быстрее и сильнее. Я уже сделался настоящим писателем: первым моим движением было вставить перо в держатель и заткнуть пробкой чернильницу. В следующий же миг я оказался опрокинут на койку. Шума теперь хватало: крики, свистки, глухие удары и треск – и вопли из соседней каморки, где моя возлюбленная на час, Зенобия, вопила почти в унисон с предполагаемой женой Брокльбанка. Я чудом встал, исхитрился отворить дверь и выбрался, наподобие паука, наружу, на шкафут.
Как пишут почти в каждой из читанных мною книг о путешествиях, «что за зрелище открылось моим глазам! Кровь моя застыла в жилах, волосы поднялись…» – и так далее.
Вся сцена изменилась до неузнаваемости. Все, что прежде было более или менее горизонтальным, теперь уподобилось крутому скату крыши и быстро приближалось к перпендикуляру. С холодной рассудительностью, проистекающей от полного моего бессилия, я понял, что пришел конец. Судно сейчас перевернется, опрокинется вверх дном. Паруса обвисли самым неподобающим образом, все ненужные тросы натянулись, а нужные болтались, словно развязавшиеся веревки на стоге сена. Подветренный фальшборт приближался к воде. Потом раздалось – не столько сверху, сколько откуда-то снаружи – медленное скрежетание, звук рвущихся парусов и ломающегося дерева. Где-то впереди огромные балки, которые обычно кажутся такими маленькими и называются стеньгами, завалились набок и висели в настоящей мешанине из тросов и порванных парусов. Часть матросов сражались у наветренного фальшборта с какими-то веревками. Один орудовал топором у среза полубака. И тут я увидел то, во что до сих пор с трудом верю: рулевое колесо так раскрутилось, что два рулевых, пытавшихся его остановить, отлетели от него, словно брызги воды. Тот, который был дальше от меня, взлетел на воздух и приземлился с другой стороны штурвала, а тот, что стоял ближе, шлепнулся на палубу, как пораженный громом. Одновременно с вращением рулевого колеса что-то сильно грохнуло. Капитан Андерсон, бросив заводить на кофель-нагель какой-то конец, очертя голову ринулся к другому тросу и повис на нем… Я подобрался к нему и тоже вцепился в трос. Под нашим двойным усилием трос подался, но – как мне после рассказали – конец, который отбросил капитан, размотался с кофель-нагеля и хлестнул меня. Я почувствовал страшный удар по затылку и спине. Не стану употреблять избитых выражений вроде «с этой минуты ничего не помню», но и вправду то, что сохранилось в моей памяти – весьма смутно и расплывчато. Каким-то образом я очутился на палубе в обнимку с юным Виллисом. Помимо дьявольской боли в спине и громкого звона в голове я почти не испытывал неприятных ощущений. А лежал я на мистере Виллисе.