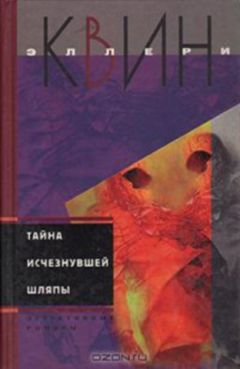Ознакомительная версия.
Я его, конечно, видела и раньше, да и не я одна. Джерри учился на последнем курсе, и многие новички, а также самые популярные преподаватели носили его на руках. По школе ходили почтительные перешептывания: «А Джерри сегодня придет?», «А над чем Джерри работает?», «А у Джерри есть чего?». Как же все это было нелепо.
Потом он уставился на меня, именно уставился, как будто я какой-то экзотический артефакт. Он стоял в дверном проеме, такой классный: сильная, красивая фигура, копна густых черных волос, бездонные темные глаза, в которые я не могла даже посмотреть. Я чувствовала его ершистую уверенность и силу, лучи которой доходили до меня из-за кухонной стойки, а когда он подошел, внутри у меня все сжалось.
Дальше Джерри сделал нечто странное. Он представился и, когда я в ответ промямлила «Лина», снял с меня берет, убрал челку с лица и вернул берет, заправив под него волосы, на место. Тут я заметила, что у него очень длинные ресницы, как будто накладные девичьи.
– Хочу видеть, с кем я говорю, Лина. И такие глаза не стоит прятать, – сказал он с широкой улыбкой, которая нейтрализовала мое возмущение этой наглостью.
Я жалко растянула губы в улыбке, как маленькая девочка. Я была настолько одурманена его присутствием, что даже не злилась за это на себя (ненависть к себе придет потом).
Мы проболтали целую вечность, потягивая вино, потом еще пили вино и еще. Потом странная магическая пьяная сила понесла нас по бело-черным обшарпанным улицам к нему домой мимо покрытых снегом машин, которые окаймляли проезжую часть, как огромные зубы. К счастью, это было не так далеко. Он жил в верхней части старого дома, разделенного на две квартиры. Его квартира была просторная, даже шикарная. Я думала, мы сейчас займемся с ним сексом, и я очень хотела, но вместо этого мы просто болтали, обнимались и пили кофе. Забрезживший рассвет высветил поры на коже Джерри, острые углы его челюстей и скул: он предложил поехать на Элке в центр ко мне в общагу. Хотел посмотреть мои работы. Я помню тепло его тела рядом с собой в переполненном поезде; хотелось, чтобы наше путешествие на метро длилось вечно.
Поезд выплюнул нас на мерзлую, пустую улицу в центре города. Когда мы добрались до общежития, Ким по счастливой случайности уже встала и оделась. Джерри вежливо поздоровался и стал смотреть мои эскизы, рисунки и еще пару работ, которые я обрамила и повесила на небольшом свободном участке стены.
– Какая ты крутая, – признал он, – но, кроме того, ты еще и очень плодовита. Надо, чтобы люди это увидели.
Он признался, что наслышан о моем таланте и какое-то время наблюдал за мной. Мне, естественно, это польстило. Да что там, я пришла в полный восторг. Через несколько дней мы снова оказались у него дома, на кухне, и снова обнимались и целовались. Было ощущение, что вот оно, наше время. Я сползла по стене на пол, мы сели, прислонившись спиной к прохладному холодильнику, и стали целоваться, то доводя себя до предела, то страстно отстраняясь. Я первая развеяла чары экстаза и перешла в наступление: расстегнула ему молнию на брюках, залезла внутрь и нащупала твердь. Он издал какой-то тонкий свистящий звук, как будто выпускал сжатый воздух через передние зубы. Это было очень странно, но потом он заставил меня встать, спустить штаны и переступить через них. Упрашивать меня было не надо, но, когда я разделась, он так посмотрел на меня, будто его заклинило. Я снова взяла инициативу в свои руки, мягко подтолкнув его на кухонный пол и отогнав промелькнувшую было мысль, что пол грязный. Джерри, кажется, это заметил, изобразив едва заметное неудовольствие.
– Давай, может… – начал было он, но я заставила его замолчать очередным поцелуем, расстегнула ему ремень, оттянула трусы в сторону, высвободив жилистый член. Член уперся мне прямо в живот; я села на Джерри верхом, опираясь одной рукой на старый пузатый холодильник «Кенмор» кремового цвета.
Джерри схватил меня своей широкой ладонью за загривок, и мы задвигались медленно и неудобно; я упиралась коленями в пол, пока он не подтянулся вверх и не оперся на «Кенмор». Другой рукой он гладил меня (по-прежнему через трусы) по ягодицам, целовал и кусал в шею. Я глубоко поцеловала его в губы. Он вцепился мне в бедра, прижимая вниз к себе, я отдернула в сторону свои трусы и тут почувствовала, как вобрала его всего сразу, а внутри, где-то у основания позвоночника, будто разожгли огонь. Я почти сразу быстро и с силой задвигалась на нем вверх-вниз, но тут он еще сильнее схватил меня за бедра, пытаясь столкнуть с себя, и застонал, но я прокричала: «Подожди» – и почувствовала, что отлетаю в какой-то другой мир и другое измерение. Джерри все стонал, а я наседала с последней решительной силой, продвигаясь туда, куда жаждала попасть, а когда все закончилось, медленно отлепила от него свое изможденное тело. Мы тяжело повалились на пол, и я заметила, что он кончил на паркет, мне на трусы (которые частично так и остались на мне), на бедра и на свои смятые штаны. Он медленно стукнулся два раза затылком об холодильник. Потом сделал глубокий вдох и выдохнул с каким-то булькающим, эйфорическим смехом, чем меня воодушевил; я свернулась рядом с ним и задремала.
Проснулась я оттого, что стала замерзать, и не смогла сразу сообразить, сколько была в отключке – несколько секунд или час. Поняла только, что резко вынырнула из глубокого сна: такое ощущение у меня всегда было связано с хорошим сексом. Выпутавшись из моих объятий, Джерри подложил мне под голову подушку. Его рядом не было, окно было настежь открыто. Хотя квартира была его, меня охватила паника и стыд; я вспомнила, как однажды мать пыталась изобразить сексуальное воспитание:
– Им всегда нужно только одно, а добившись своего, они пропадают. Бог создал пальцы для колец!
Видимо, эти слова глубоко врезались в память, раз я их вспомнила, пока c нарастающим смятением, щурясь в лунном свете, искала свои штаны и влезала в них. Приведя себя в порядок, я с облегчением обнаружила, что Джерри, оказывается, никуда не ушел; в окне над кухонной раковиной я увидела, что он стоит на пожарной лестнице и курит. Было темно, его лицо едва освещал луч света. Положив руку на подоконник, он на что-то смотрел, стоя ко мне в профиль. Волосы были взъерошены, губы полуоткрыты, пар изо рта валил на холодном воздухе так же плотно, как синий табачный дым. Я вышла к нему и тут заметила, что из одежды на нем только майка: ни свитера, ни куртки, будто он не замечал пронизывающего холода. Глаза с длинными коровьими ресницами были закрыты. Он открыл их, когда я возникла рядом.
– О, привет, – сказал он и притянул меня к себе, издав звук мотора мне прямо в ухо: – Бр-р-р-р!
Я засмеялась и посмотрела на него. На волосах у него таяли снежные хлопья. Я хотела дотянуться и потрогать их, но вместо этого мы стали друг напротив друга, и я придвинулась к нему, схватив его за майку. Потом шагнула еще ближе к его теплу и уткнулась подбородком в грудь. Я чувствовала тупую брутальность краснокирпичного здания, зимние деревья, торчащие как палки, серое небо и заснеженные улицы под нами: все это теперь было частью нашего с ним романа.
С Джерри, казалось, возможно все. Он буквально трещал и звенел от возбуждающей силы, самоуверенности и наглости, чего не хватало мне и чего так хотелось заиметь. Через несколько недель я почувствовала, что некоторые из этих качеств мне начинают передаваться. Вскоре я перестала считать себя маленькой коротконогой Линой из Поттерс-Прери. Теперь я была художница, подруга самого Джерри Виттендина.
Но какой ему-то от меня был толк? Тогда я этого не понимала, потому что, как почти все вокруг, испытывала перед ним благоговейный ужас. Толк от меня, однако, был: мой талант. Трагедия Джерри была в том, что, если перефразировать его самого, он не был ни крут, ни плодовит. У него были амбиции и пыл, но опереть их было особо не на что. Не было у него и другого важного компонента, который больше, чем что-то еще, требуется успешным художникам: внутреннего мотора. Он так и не развил его в себе, видимо из-за относительно привилегированного происхождения: отец работал в нефтянке, большой дом в Коннектикуте, частная школа. Я, например, не понимала, что такое чистый холст. Я сразу же набрасывалась на него со своей мазней. И не могла ждать, пока Джерри раскачается и набросится уже на меня. Я не выпускала его из рук. И к своему удивлению, обнаружила, что в любви, как и в искусстве, я была намного голоднее, чем он. Хотя я тогда этого не понимала, казалось, что Джерри все силы вложил в процесс обольщения. После этого он заскучал и успокоился на лаврах быстрее, чем любой мужик, которого можно было себе представить на его месте.
Насторожиться следовало уже тогда, когда он объявил, что отказывается от мультимедийных историй и займется теперь только фотографией. Даже самые преданные подлизы – Алекс, например, – были против. Арт-школа же насквозь иерархична. С точки зрения престижа и репутации номер один – те, кто занимается живописью, за ними с небольшим отрывом идут скульпторы. Мультимедийщиков классифицировать сложнее, потому что эта дисциплина была тогда слишком молодой и слишком аморфной, чтобы в ней кто-то разбирался. Однако у тех, кто занимался фотографией, дела обстояли еще хуже. Мало того что вопрос, можно ли фотографию считать искусством, был по-прежнему актуален, в Чикагском институте она вообще воспринималась как бедная родственница. По правде сказать, даже в моей миннесотской школе оснащение было лучше. За половину суммы, которую надо было платить за обучение в институте, можно было поступить в Коламбиа-колледж и даже арендовать фотостудию. Тем не менее фотографы не были прямо уж совсем на дне иерархии, это почетное место занимали те, кто учился на визуальных коммуникациях (непонятно, зачем вообще платить столько денег, чтобы получить диплом графического дизайнера?), хотя и ушли недалеко. Ну а Джерри никак нельзя было отнести к низам.
Ознакомительная версия.