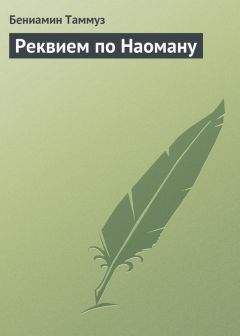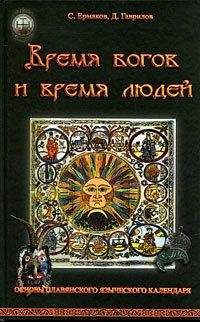Ознакомительная версия.
Внутри него еще теплилось знание: стоит ему найти некий свет, сияние, за которое можно будет ухватиться, он еще может быть спасен, и он кружился вокруг чего-то, за что, казалось ему, можно ухватиться, и пытался представить себе некий знакомый ему ландшафт, где находится это сияние.
Дом его в мошаве вставал перед ним опустевшим, в котором поселились коровы и овцы. В Иерусалиме бывшие его ученики оставили фортепьяно и так, без всякого толка, поженились. Никогда Нааман не предлагал им иные варианты жизни, уверенный в том, что они и сами поймут свой путь. Не поняли. Отец же виделся ему огромной горой, самодовольной в своей пустыне, и поток, несущий Наамана, огибал эту гору с головокружительной быстротой, смывая всяческие направления, обрушиваясь вниз, разливаясь вокруг и вдаль, и не было смысла взывать о помощи из глуби этого потока, ибо силен голос вод, а гора высока и глуха.
Стоял Нааман, прислонившись к стене какого-то дома, глядел на летнюю улицу, на пешеходов, и улыбался. Молодая женщина подошла к нему, вынула из сумки платок, обтерла ему лицо и что-то ему говорила. Он узнал ее в тональности G-Moll. Она вложила ему в рот кусочек шоколада, и он выплюнул его.
К утру, лежа на постели в своей комнате с закрытыми глазами, он пытался вспомнить, кто же была эта молодая женщина на улице; и после долгого напряжения памяти, где-то к обеду, подумал, что, быть может, это была его мать. Завтра, может, даже сегодня вечером, он вернется на то же место и будет ее ждать. Вечер за вечером будет стоять там, пока она не вернется.
Через три месяца, вернувшись в Париж, стоял Эфраим в дверях комнаты на шестом этаже. Каждый месяц по его указанию приходили сюда деньги из банка, часть которых шла хозяйке, часть Нааману. Помнил он и предписания врача, что хорошая пища и прогулки по бульварам и садам вернут сыну здоровье. В дороге он надеялся на нечто лучшее, но сердце его сжимал страх.
Открыв дверь, он увидел перед собой юношу, волосы которого отросли, как у женщины, жидкая бороденка вилась, покрывая светлым пушком щеки, как у юношей, которые ни разу не брились, и свисала с подбородка. Гладкие его щеки покрывал нездоровый румянец и глаза горели нездешним огнем. Нааман встал посреди комнаты, поклонился и развел руками, словно извиняясь.
Эфраим молча смотрел на сына. На миг показалось ему, что юноша сейчас упадет, и он готов был броситься к нему и поддержать, но юноша не рухнул, не отключился, а продолжал стоять на месте. Длинные его волосы были волосами матери, и румянец на щеках – ее, только пушок портил Эфраиму настроение, но он тут же взял себя в руки и сердце его сжалось от жалости и ужаса.
– Как дела, Нааман? – Эфраим сам испугался звучания своего голоса.
Юноша снова развел руками, как бы прося прощения за все, что натворил.
На этот раз врач приехал, ибо Нааман не хотел покидать комнату даже с отцом. Врач посоветовал отвезти Наамана в больницу. Не лучше ли, спросил Эфраим, увезти его домой, в Эрец-Исраэль.
Услышав это, Нааман ушел в угол, приложил ладони к стене и прошептал:
– Я не хочу туда.
По мнению врача, в Палестине нет специалистов по этой болезни и лучше оставить его здесь, пока не наступит улучшение и он вернется домой по собственной воле. Ночью отвез его отец в больницу, поместил его в отдельную палату и оставался с ним всю ночь. К утру услышал тихое завывание с постели сына. Он бросился к нему и прошептал:
– Нааман, ну скажи мне, что за зло я тебе сделал? Кто, кто это сделал тебе?
Но, кажется, Нааман завывал со сна. Он не открыл глаза и никак не отозвался.
Через несколько дней Эфраим добрался поездом до Марселя, ступил на корабль и вернулся домой, к своим цитрусовым плантациям.
И было Эфраиму Абрамсону по возвращению из Европы сорок семь лет, и он сдержал клятву: больше ноги его не было за пределами Эрец-Исраэль до дня смерти, через сорок три года.
Вернувшись, он отчитался о поездке в союзе владельцев цитрусовых плантаций, и, несмотря на сплошную цепь успехов и достижений, крестьяне были удивлены тому, что не было на его лице и следа улыбки, и все говорилось с угрюмым и замкнутым выражением лица, которое таким и осталось на всю оставшуюся жизнь.
Дома встретил сообщение о свадьбе Сарры и Аминадава сердитым молчанием, и молодые были сильно удивлены тем, что не сказал ни слова и вообще не проявил к случившемуся никакого интереса. Они даже как-то немного обиделись на это. Конечно же, Аминадав испытывал боязнь перед отчимом, но не было в жизни его случая, как говорится, согрешить перед ним, поссориться, а затем наслаждаться примирением. Учитывая всю необычность женитьбы на Сарре, он ожидал, что отчим будет метать громы и молнии, а затем они помирятся, и таким образом Аминадав узнает, насколько Эфраим его любит. Но все эти ожидания пошли прахом.
– Сарра родит дома, – сказал он Ривке ночью в их комнате, – но после этого я дам им деньги, пусть найдут сами себе место и создадут дом по их разумению.
Ривка не возразила. Она не могла требовать от Эфраима дважды из-за нее позориться перед жителями мошава, и к тому же была убеждена, что ответственность за поведение Аминадава лежит на ее плечах. Для него и так достаточно было решиться взять ее в жены и пойти против комитета мошава.
За год до начала Первой мировой родила Сарра первенца и дали ему имя Овед.
– Все мы земледельцы, работники земли, – сказал Эфраим.
Через полгода молодые переехали жить в Тель-Авив, и там Аминадав открыл фабрику по производству кирпичей и строительных блоков, на которой трудился сам с еще двумя рабочими. Сарра вела дела с подрядчиками и строителями. В свою квартиру на бульваре Ротшильда взяли они ученицу гимназии «Герцлия», которая после учебы следила за ребенком, убирала и варила, а Сарра сидела над счетами с подрядчиками и строителями, а затем ходила на стройки собирать долги и набирать заказы.
Через год Сарра родила еще одного сына, и дали ему имя Эликум, а еще через несколько месяцев грянула Первая мировая война, прекратилось строительство в Тель-Авиве, и фабрика закрылась.
Настали годы скорби, голода, изгнаний, годы, которые стираются из книги жизни. Прекратилась торговля цитрусовыми. Саранча 1913 года оголила плантации, и крестьяне обнищали до такой степени, что в домах не было и куска хлеба.
Через месяц после начала войны пришло Эфраиму письмо из Франции вместе с грудой писем о торговых сделках и делах Союза, и в нем писалось, что Нааман покончил с собой.
Эфраим Абрамсон держал письмо, еще и еще раз перечитывая его, закрывая глаза и говоря про себя: оба умерли, и сын, и мать. Они пишут, что и мать умерла. Нет сомнения, что именно это они хотят мне сообщить.
Он не рассказал Ривке про письмо из Парижа, пошел на плантацию, которая лишь год назад ломилась от плодов, а теперь была пустынна и сожжена, и ветви кололи каждого, кто к ним приближался. Он кружился между обнаженными стволами, грозил кому-то кулаком, носком ботинка сбивал сухие комья земли, бормотал обрывки строк из Священного писания, уже выветривающиеся из памяти – «Страна отдана злодею…», «Да сгинет день, в который я родился… Да станет день тьмою… Да поглотит мрак эту ночь…», наконец сел на землю, порвал рубаху, теребил отставшую от ствола кору дерева и кричал: «Вырвать, вырвать с корнем, ко всем чертям… На что и для кого я потратил дни свои, кровь свою и пот? Кто мне здесь и что мне здесь? Сын мой Нааман, любимый мой Нааман, почему я позволил тебе оставить отчий дом? Зачем я взял тебя в эти проклятые страны? Сирота моя, юноша, играющий на фортепьяно, саженец слабый и нежный, это я убил тебя, я убийца, я, президент Союза владельцев плантаций… Как я прятался за этим отвратительным «почетом и уважением»… Сумасшедший, дурак несчастный, почему я не хотел верить в то, что Белла выбрала смерть. Ей лучше было умереть, чем жить со мной. Где были мои глаза, мое сердце, когда я видел ее блуждающей по дому, как привидение? Дом я ей дал, плантации насадил для нее… Но она всего этого не хотела. Мелодии были у нее в голове, и к ним она жаждала вернуться… Это я, грубая скотина, конь, впряженный в телегу, ходил по кругу и ничего не видел по сторонам, и сердце мое было закрыто, как пустая бочка… Мне было важно пожать руку доктора Вейцмана, одеваться в черное, пустомеле, одержимому страстью суеты, бегущему в места, где никто тебя не знает. Кто простит мне, кто скажет мне: гнусная ты сволочь? А вы, которых уже нет, любимые мои, единственные мои, для чего мне жизнь без вас?»
Упал Эфраим лицом в прах между пнями, пока не напал на него сон. И сидел там, во сне, за столом заседания Союза владельцев цитрусовых плантаций, и вдруг вспомнил, что дети не накрыты, и могут простудиться, вышел из зала заседаний, пересек коридор и вошел в детскую спальню, стоял на пороге. Волна великого счастья затопила его душу и он сказал про себя: вот, твой дом полная чаша, полны закрома зерном, не во всем ли тебе благословение?
Ознакомительная версия.