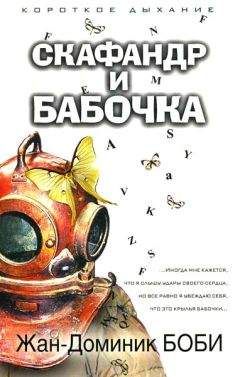– Выше по дороге есть дом, который уже много лет как заброшен. По местной легенде, в полнолуние мраморные статуи в его саду оживают и несколько часов кряду блуждают по усадьбе. Сегодня я почти верю, что это правда.
– Как печально. Если бы я была статуей и вдруг ожила, я бы все время искала то, что утратила, последнее из того, что я сделала, пока была жива. Представьте, каково это: влачить существование, превращаясь то в камень, то в плоть, между смертью и жизнью, в постоянных поисках воспоминаний о прошлых жизнях. В конце концов я бы забыла, что ищу. Забыла бы то, что пыталась вспомнить.
– Или можно просто наслаждаться моментом, пока жив.
Едва промолвив это, я понял, насколько лицемерно прозвучали мои слова, сколько в них было иронии.
Сазерленд пела, изливая сердце в ночную тьму. Я сказал Митико, что «Caro nome» Верди была любимой арией моего отца.
– А теперь стала вашей.
Я кивнул.
– Повторите, что вы хотели узнать, вы говорили сегодня утром.
Она отхлебнула саке и откинулась на спинку плетеного кресла.
– Расскажите мне про свою жизнь. Расскажите мне о жизни с Эндо-саном. О ваших радостях и печалях. Я хочу знать все.
Я этого ждал. Мой рассказ пятьдесят лет ждал своего часа, столько же, сколько письму Эндо-сана понадобилось, чтобы дойти до Митико. И все же я колебался – словно кающийся грешник перед исповедником, сомневался в том, хочу ли, чтобы кто-то посторонний узнал обо всем, чего я стыжусь, о моих неудачах, о совершенных мною смертных грехах.
Словно чтобы укрепить мою решимость, она достала письмо и положила на стол между нами. Желтоватые сложенные страницы напоминали старческую кожу с едва заметной татуировкой из поблекших чернил, просвечивавших на неисписанную сторону. Мне подумалось, что мы с письмом похожи. Жизнь, прожитая мною, была сложена так, что мир видел только белую сторону листа, ее дни были вывернуты пустотой наизнанку; едва заметные строки мог рассмотреть только очень пристальный взгляд.
И вот в первый и в последний раз я бережно развернул свою жизнь, открывая читателю написанный старинными чернилами текст.
В день моего рождения отец посадил казуарину. Такую традицию заложил мой дед. Долговязый саженец врыли в землю в саду с видом на море, и ему предстояло вырасти в красивое дерево, крепкое и высокое, с плащом из листьев, легким ароматом смягчающих резковатый дух моря. Это было последнее дерево, которое отцу было суждено посадить.
Я был самым младшим ребенком одного из старейших родов Пенанга. Мой прадед, Грэм Хаттон, служил конторским служащим в Ост-Индской компании и в тысяча семьсот восьмидесятом году отправился в Ост-Индию самолично, чтобы сколотить состояние. Он плавал вокруг Островов пряностей[15], скупая перец и эти самые пряности, и как-то ему случилось войти в расположение к капитану Фрэнсису Лайту, который искал подходящий порт. Капитан нашел его на одном из островов в Малаккском проливе, к северо-западу от Малайского полуострова, в удобной близости от Индии. Остров отличался малонаселенностью, густыми лесами, бугрился холмами и был окаймлен длинными пляжами белого песка. Местные называли его по имени высокой арековой пальмы «пинанг» – в изобилии на нем произраставшей.
Немедленно осознав стратегический потенциал острова, капитан Лайт приобрел его у султана Кедаха за шесть тысяч испанских долларов и британский протекторат от потенциальных узурпаторов. Остров получил название «Остров принца Уэльского», но в итоге стал известен как Пенанг.
Начиная с шестнадцатого века Малайский полуостров был частично колонизирован сначала португальцами, потом датчанами и в конце концов британцами. Последние продвинулись дальше всех, распространив свое влияние практически на все малайские государства. Обнаруженные запасы олова и почва и климат, пригодные для высаживания каучуконосов – оба эти ресурса были жизненно необходимы во времена промышленной революции, – стали причиной междоусобных войн, которые британцы разжигали, чтобы взять государства под свой контроль. Колонизаторы свергали султанов, возводили на трон незаконных наследников, платили за концессии звонкой монетой, а когда даже это не помогало, не гнушались поддерживать угодные им клики силой оружия.
Грэм Хаттон был свидетелем, как капитан Лайт приказал набить пушку серебряными монетами и выстрелить в лес: отец рассказывал, что таким способом Лайт заставлял кули расчищать земли от зарослей. Человеческая природа взяла свое, и замысел удался. Остров превратился в оживленный порт, расположенный в полосе смены направления муссонных ветров. Моряки и торговцы останавливались там на пути в Китай, чтобы передохнуть и насладиться неделями тепла в ожидании, пока сменится ветер.
Грэм Хаттон преуспел: в скором времени была основана фирма «Хаттон и сыновья». В то время Хаттон еще не был женат, и оптимистическое название компании вызвало немало пересудов. Тем не менее он знал, чего хочет, и ничто не могло ему помешать.
Путем различных закулисных сделок и благодаря заключенному в конце концов браку с наследницей семьи коммерсантов мой прадед положил начало собственной легенде на Востоке. Компания получила известность как один из самых прибыльных торговых домов. Но корни династических притязаний Грэма Хаттона простирались глубже: он мечтал о символе, том, что оказалось бы долговечнее его самого.
Особняк Хаттона был построен на вершине небольшого утеса и высился над подводными морскими лугами, сливавшимися в долины Индийского океана. Здание из белого камня, спроектированное архитекторами из пенангского бюро «Старк и Макнил», почерпнувшими вдохновение в работах Андреа Палладио[16], подобно многим домам, строившимся в то время, было окружено рядом дорических колонн, а фасад украшала увенчанная фронтоном изогнутая колоннада. Дверные и оконные рамы были сделаны из бирманского тика, а для постройки прадед выписал каменщиков из Кента, кузнецов из Глазго, мрамор из Италии и кули из Индии. В доме имелось двадцать пять комнат; верный своему честолюбию прадед, частый гость при дворах малайских султанов, назвал его «Истана», что по-малайски означает «дворец».
Главное здание окружал большой газон, подъездную аллею из светлого гравия окаймляли высаженные в ряд деревья и цветочные клумбы. Аллея шла вверх под приятным наклоном, и если встать у входа и поднять взгляд, создавалось впечатление, что выступ фронтона указывает дорогу в небеса. После того как дом перешел к моему отцу, Ноэлю Хаттону, были построены бассейн и два теннисных корта. К главному зданию примыкали отгороженные изгородью в человеческий рост гараж и дом для прислуги – и то и другое бывшие конюшни, которые перестроили, когда страсть Грэма Хаттона к скаковым лошадям сошла на нет. В детстве мы с братьями и сестрой часто ковыряли там землю в поисках лошадиной подковы, радостно вопя всякий раз, как кто-то ее находил, пусть даже подкова была покрыта коркой ржавчины и оставляла на руках железисто-кровяной запах, не улетучивавшийся даже после продолжительного воздействия намыленной щетки.
Иди все своим чередом, я мало бы что унаследовал. У отца было четверо детей, я самый младший. Меня никогда особенно не заботило, кому будет принадлежать Истана. Но дом я любил. Его элегантные очертания и история глубоко меня трогали, я обожал исследовать его закоулки, иногда даже – вопреки боязни высоты – выбираясь через чердачную дверь на крышу. Там я сидел, разглядывая окрестности через рельеф крыши, словно буйволовый скворец на спине у буйвола, и прислушивался к громаде дома у себя под ногами. Я часто просил отца рассказать о предках, чьими портретами были увешаны стены, о пыльных трофеях, завоеванных теми, с кем я состоял в родстве, – подписи под ними прямо указывали на мою связь с этими давно сгинувшими частицами моей плоти и кости.
Но, как бы я ни любил дом, море я любил больше – за его вечную переменчивость, за то, как сверкало на его глади солнце, и за то, как оно отражало малейшее настроение неба. Даже когда я был еще ребенком, море шепталось со мной, шепталось и разговаривало на языке, который, как мне казалось, понимал я один. Оно обнимало меня теплым течением; оно растворяло ярость, когда я был зол на весь мир; оно догоняло меня, когда я бежал по берегу, сворачиваясь вокруг моих голеней, искушая меня идти все дальше и дальше, пока я не стану частью его бескрайнего простора.
– Я хочу запомнить все, – сказал я однажды Эндо-сану. – Хочу помнить все, к чему прикасался, что видел и чувствовал, чтобы оно никогда не потерялось и не стерлось из памяти.
Он посмеялся, но понял.
Отец женился на моей матери, Хо Юйлянь, вторым браком. Ее отец присоединился к массовому исходу в Малайю из китайской провинции Хок-кьень[17] в поисках богатства и возможности выжить. Тысячи китайцев приезжали работать на оловянных рудниках, спасаясь от голода, засухи и политических потрясений. Мой дед сколотил состояние на принадлежавших ему рудниках в Ипохе, городе в двухстах милях к югу от нас. Младшую дочь он отправил в монастырскую школу на улице Лайта в Пенанге, подальше от работавших на него грубых кули.