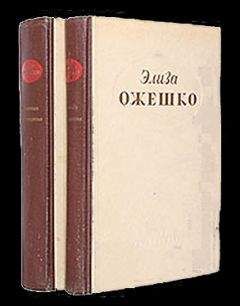В ясный морозный день Флориан Кулеша стоял на крыльце своего низенького, вытянувшегося в длину дома. Дружелюбно улыбаясь, он провожал взглядом юношу в щегольской шапке и ловко облегавшей его куртке, который шел со двора с закинутым за плечи ружьем. Юноша уже пересек поле, покрытое снегом, и свернул на обсаженную вербами дорогу, ведущую к лесу, который близко подступал к дому огромным темным кольцом, а Флориан все еще стоял на крыльце и глядел ему вслед. Что ему мороз? Его и не почувствовал этот крепкий, коренастый человек с круглым загорелым лицом, на котором светились чудесные синие глаза, как два василька, воткнутые в пион. Это были ясные, открытые глаза добряка, здорового духом и телом, благожелательного к людям, небу и земле и всегда довольного судьбой. Томил ли палящий зной, бушевал ли вихрь, хлестал ли осенний дождь или трещал мороз, — он равно мирился со всем, что посылали небо и земля. Те делали свое, а он свое; они давно сжились и отлично ладили между собой. Когда, бывало, по капризу неба и земли случался недород, Флориан горевал, но не настолько, чтобы впасть в уныние или предаваться отчаянию. Он, как мог, старался выйти из беды: пахал, сеял, молотил, рассчитывал, сберегал каждый грош, лишь бы внести хозяину аренду и как-нибудь прожить с семьей. Так он и прожил до пятидесяти лет, что подтверждали морщинки на низком лбу да проседь в густых волосах, но что оспаривали блестящие синие глаза и белоснежные зубы, сверкающие в улыбке. За эти глаза и улыбку можно было простить и грубые черты лица, и низкий лоб, и даже слишком пухлые губы и подбородок, на которых явственно запечатлелся один из смертных грехов, а именно: чревоугодие. Поработать, посмеяться, хорошенько поесть он умел — это было несомненно; и столь же несомненно он любил, всем сердцем любил скрывшегося за воротами юношу. Но к этому чувству, видимо, примешивалась какая-то забота: улыбка вскоре исчезла с его лица, и, обернувшись к женщине, сидевшей на лавке, он кивком головы указал на ворота и огорченно вздохнул:
— Эх, жалко!
Женщина покачала головой, закутанной старенькой шалью, из-под которой видны были только маленькие черные глазки, маленький вздернутый носик и маленький увядший ротик, и грустно ответила:
— Жалко!
Впервые они коснулись того, что у обоих лежало на сердце, но сразу поняли друг друга. Недаром они прожили, не разлучаясь, с лишком двадцать лет. С минуту помолчав, женщина взглянула на мужа и тихо проговорила:
— Аврелька-то как похудела!
Он передернул плечами.
— Так уж и похудела! Вот бабья привычка из мухи делать слона! С чего ей худеть? Ну, не этот, так будет другой. По ярмаркам я возить ее не стану, авось и из дома возьмут. Чахотки у нас в роду, слава богу, не бывало, да и от любви никто не помирал. Бабьи выдумки!
Женшина развела под шалью руками и, жалостно моргая черными глазками, сказала:
— Что же делать, раз он помолвлен!
— Вот так новость! Право, Теофиля, уж вы скажете, есть что послушать. Кажется, не успел он приехать, как сразу же и рассказал, что помолвлен, а Аврелька дуреха: знала про это, так нечего было и голову себе забивать.
— Аврелька молодая, — вдруг оживившись, возразила мать, — а вы старый, вам бы надо быть поумнее и не звать его к нам в нахлебники.
— Ну, уж вы скажете! Что я зверь, что ли? Как же я дам хорошему человеку пропадать нивесть на каких харчах? Да и мог ли я думать, что девушки непременно влюбляются 50 всякого, кто только обедает в доме. Или это такой обычай у девушек? Кто вас разберет? Вы, Теофиля, баба, вы и знаете бабьи обычаи, вот и надо было предостеречь; дескать, стоит девушке увидеть, как мужчина ложку ко рту несет, так она сразу и влюбится! А раз так, ей-богу, в меня все девушки, какие только есть на свете, должны бы влюбиться: уж что-что, а поесть лучше меня никто не сумеет!
Сначала он как будто рассердился на жену за то, что она его попрекнула, а под конец уже и сам смеялся и ее рассмешил. Укоризненно покачав головой, обмотанной шалью, она сказала, смеясь:
— Ох, Флориан, Флориан! И все-то вы шутите! Вы и на моих похоронах, пожалуй, какие-нибудь глупости придумаете.
Несмотря на столь горестные подозрения, видно было, что шутки мужа ей по душе; да и он, подбоченясь, весело поглядывал на нее.
— А что ж? Вы любите охать; надо же мне когда-нибудь посмеяться в свое удовольствие. Хватит в доме и вашего нытья. Дети в меня пошли: никогда не охают, зато и любят же посмеяться.
— Аврелька теперь уж не так… — принялась было причитать женщина, как вдруг ее прервали донесшиеся из сеней веселые голоса и топот бегущих ног. На крыльцо выскочила целая гурьба молодежи, во главе которой неслась девушка лет двадцати, босая, в розовой кофте и короткой юбке, с толстой золотой косой, упавшей на спину, с ведром в руке. За ней вдогонку бежала другая, очень похожая на нее, но чуть помоложе, в яркой лазоревой кофте, за которую ухватился тринадцатилетний подросток в лиловой куртке. Вслед за подростком, вытянув руки, семенил мальчуган лет девяти, в зеленой блузе, а его в свою очередь старались догнать двое ребятишек в одинаковых белых рубашках, опоясанных домотканными кушаками.
Громко смеясь и что-то выкрикивая, они сбежали с крыльца и помчались по искрящемуся на солнце снегу в конец двора, где находился колодец с большим колесом. Здесь же были конюшни, коровник и хлев, которые стояли полукругом с одной стороны двора, между тем как с другой, обхватив таким же полукругом дом, высились опушенные инеем пирамидальные тополи. В бледном свете зимнего солнца по усеянному искрами снегу вилась полукругом между тополями разноцветная цепочка, поблескивая, как лучами, золотыми косами девушек и звеня дружным смехом. На шум выскочили из кухни, с дальнего конца дома, молодые и пожилые женщины — кто с ножом, кто с мокрой тряпкой, кто с кастрюлей в руках; вышли батраки с пилами и топорами; высыпали ребятишки — и маленькие и побольше, — но все босиком, все в одних рубашонках и с льняными вихрами. Женщины, стоя в дверях, громко переговаривались; какая-то бабка, размахивая кухонным ножом, так и покатывалась со смеху, а дети со всех ног пустились бежать по снегу, описывая полукруг мимо конюшен. К шуму и смеху примешался заливистый лай двух пегих лохматых дворняжек, которые, весело махая хвостами, бросились прямиком к колодцу; примешался и пронзительный истошный визг Теофили, кричавшей:
— Аврелька! Аврелька! Аврелька!
Один только Флориан Кулеша, видимо, привыкший к подобным сценам, ничего не говорил; он широко расставил ноги и, подбоченясь, ухмылялся во весь рот, показывая белоснежные зубы. Однако, когда жена его, не переставая вопить благим матом: "Аврелька! Аврелька! Зоська! Каролька! Антек!", уже подхватила юбку обеими руками и собралась сама бежать им вслед, он удержал ее за шаль и проговорил:
— Чего вы орете? Чего бежите? Чего вы мудрите?
— Босиком, в летних кофтах, по снегу, в этакий мороз… О господи Иисусе!.. — заохала Теофиля, ломая руки.
— Ну, и что же? — флегматично спросил Кулеша.
— Простудятся! Захворают! Господи Иисусе! Будто батрацкие дети! Будто нищие на паперти! Будто сироты убогие, которым обуть-одеть нечего!
Флориан расхохотался так, что у него слезы выступили на глазах.
— А вы, Теофиля, плюньте! — урезонивал он жену. — Вам, что ни случись, только бы поохать! Княжны они, что ли, по-вашему, что им босиком и в летней одежке вредно ходить зимой? Или, может, вы предполагали княжен произвести на свет, — кто вас знает? Только не вышло, знаете ли. Самая что ни на есть мелкая шляхта получилась, хоть отец их и арендует землю. В отца пошли, да еще в бабок и прабабок: те тоже босиком по снегу бегали. Так уж вы, Теофиля, понапрасну не охайте, а лучше дайте-ка мне поесть, а то я проголодался хуже наших дворняжек…
— Вам бы только шутки шутить, а дети захворают, и уж Аврелька непременно…
— Отчего же это Аврелька непременно захворает? Нежна очень или маменькина любимица, а? — поддразнивал жену Кулеша, входя следом за ней в дом.
В это время начало вертеться все быстрей, быстрей колесо колодца, а в лад его оборотам разнеслась громкая песня. Взобравшись на высокий сруб, посреди лазоревых, лиловых, зеленых и белых кофточек и рубашек весело прыгающей детворы, девушка в розовой кофте распевала на весь двор:
Хоть бы вас тут было, как листвы на иве,
Нету и не будет Ясенька красивей.
Хоть бы вас тут было, как на море пены,
Нету и не будет Яся драгоценней!
— Положим, не Ясь, а Юрась… да и то он помолвлен! — пробормотал под нос Кулеша, усаживаясь за стол и придвигая к себе блюдо бигоса с копченой ветчиной. Между тем супруга его, нарезая хлеб большими ломтями, зашептала:
— Ну, помолвлен — не словлен! Может, бог даст, из этой помолвки еще ничего не выйдет!