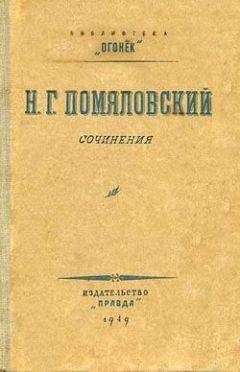Николай Герасимович Помяловский
Махилов
Майское солнце разливало вечерние лучи свои по сводам в кирпичному полу семинарского здания в Ч…ве, а в некоторых углах его уже заметно начинало стемняться. Все здание было наполнено каким-то странным жужжанием. Не понять, откуда оно выходит: оно как будто ползет и лезет из каждой трещины, из каждого отверстия стен и пола коридоров. Эти странные звуки означают, что ч…ские семинаристы сидят за партами и снабжают свои головы познаниями всякого рода и сорта. Ничего не слышно, кроме жужжания; разве только изредка вскрикнет какой-нибудь семинарист – не охотник до долбни и сидячей жизни, да изредка покажется дежурный на длинном коридоре; его шаги звонко раздаются по гладкому кирпичному полу и, раскатившись под сводами, опять замирают мало-помалу; опять глухое, невнятное жужжанье охватывает все слои семинарской атмосферы.
Но вот в углу коридора, в богословской занятной шум превращается в говор; говор становится сильнее и крепче; начинают прорываться какие-то вскрикивания, и вдруг это кресцендо стремительно возрастает до самого страшного фортиссимо. Что же встревожило или обрадовало ч…ю богословию? Философ ли возмутился, и ему объявляется месть и гонение? Не презренный ли словарь – исчадие мелкой бурсы – оказал словом или делом непочтение аристократу семинарии, и богослов в гневе своем хочет раздавить его, как ничтожнейшую тварь? Или мало дали каши за обедом и еще меньше посулили за ужином, и вот оголодавший богослов идет войной на буфет и поварню? Или товарищ попался за железные двери ч…го карцера, и друзья идут громить их своими кулаками? Нет, не то; философ покорен им; словарь ходит по струнке; каши поели они досыта, и карцер свободен от постоя. Вот прислушайтесь к кликам, и вы узнаете, что богословия не бунтуется, а только веселится – торжествует богословия, и торжествует не именины товарища, не кулачную победу в бою с купцами – нет, все не то. Слушайте клики: «Ура, ребята! кути!.. На печку книги!.. Эй, Махилов, четверть сюда!.. Рекреация, ребята!» Так вот что обрадовало семинарию! Для нее настала рекреация со своим трехнедельным досугом, со своими песнями, весельем и попойками, Благодатная весть быстро обошла вместе с дежурным все классы – и вмиг, будто по одному темпу, все завыло и застонало во всех углах словесности и философии. Теперь на коридоре уже не жужжанье, а как будто стены и своды рушатся друг на друга: так громогласно радуются питомцы бурсы, а этих питомцев в ней до 900 человек.
Заглянемте в какой-нибудь класс. Пойдем, в богословию, в другие классы неприлично итти нам. Вот огромная комната, в которой помещается высшее отделение.
Тридцать парт,[1] кафедра, вешалка и на ней богословский гардероб, да ведро воды у дверей – составляют всю мебель класса. В комнате плавает дым махорчатого табаку и слышится запах угара… Но посмотрите, что за молодцы семинаристы. Это не то, что петербургский семинарист, которому не съесть каши более полумиски и не выпить пенного более полуштофа. Вот, например, Махилов. Посмотрите, как лихо отхватывает он трепака среди обступивших его товарищей, с поднятой вверх бутылью, в которой плещется, звенит и играет за зеленым стеклом русское пенное. Молодец! Плеча широкие, рост в сажень, и притом красавец, каких мало. Он первый силач семинарский, и многие ч…ие купцы и мещане, бока которых ознакомились с его кулаками, пугают детей своих именем Максима Созонтовича Махилова. Богословы любуются на своего товарища-богатыря; они дымят длинными чубуками и частыми вскрикиваниями одобряют и поджигают плясуна.
– Живо, ребята! – крикнул Махилов своим здоровым басом.
– Нахаживай! – подхватил Третинский – друг Махилова и силач не из последних, – и Максим Созонтыч начал выделывать ногами такие удалые вавилоны, что, одушевившись, все пошли вскачь и вприсядку.
Клики и песни смешались вместе, а сквозь клики и песни слышно, как звенят бутыли и стаканы. Везде льется искрометный ром и ходят столбухи пенного вина. Право, глядя на них, поневоле приходит на ум песня:
Вот как жили при Аскольде наши деды и отцы,
Как простую пили воду – мед и крепкое вино…
хотя эту пирушку пировали не далее, как лет за двадцать или пятнадцать.
Песни, пляска и попойка пошли крепче и шире, и через полчаса пирушка дошла до тех пределов, когда подгулявший семинарист все забывает, когда он всем и каждому рассказывает, что ему одному интересно знать, когда он целует и товарищей и стены, – и плачет, и хохочет, и поет почти в одно время.
– Махилов! действуй! – кричит Третинский. Махилов опять как вихрь несется по классу, помахивая бутылью – вечною его спутницею в семинарских пирушках.
– Эй, Махилов, легче! у меня спина не казенная! – заметил Бедучевич Махилову, который на всем лету въехал ему в спину бутылью. Но Махилов, не обращая на него внимания, опять с гиканьем и притопыванием помчался по классу.
– Экое животное! – ворчал Бедучевич: – Подожди, я тебя сам ссажу!
Бедучевич соперничал с Махиловым по силе мышц и давно точил на него зубы. Бедучевич, Махилов, Чикадзе, Зимченко, Клопенко, Третинский и Остенкович – это были такие молодцы, о которых и нынешний курс вспоминает с глубоким уважением, потому что силач составляет гордость ч…ой семинарии. Да, силач там много значит, потому что много значит кулачное право. Есть пословица: не будь пригож да умен, а будь счастлив, – эта пословица у них выражается несколько иначе: не будь умен, а будь силен, – всегда будешь пьян. Но обратимся к рассказу. Бедучевич ворчал на Махилова и умышлял что-то недоброе, и действительно, когда тот несся мимо него, он подставил ножку. Махилов налету с размаха ударился своей физиономией и бутылью в стену: физиономия отскочила назад, но бутыль разлетелась вдребезги.
– Это кто? – закричал Махилов.
– Извини, это я… – отвечал Бедучевич.
– А! ты? сейчас новую четверть!
– Уж не купить ли тебе?
– Одно из двух: либо четверть, либо подставляй спину.
Бедучевич на эту обиду не ответил ни слова, но только искоса поглядел на Махилова и хладнокровно и медленно стал засучивать рукава. Он решился драться с Махиловым, наказать дерзкого обидчика и вырвать из рук его пальму кулачного первенства. Бедучевич никогда не решился бы на это в трезвом виде, но полугар делает еще не то: пример на наших семинаристах.
– А, так ты хочешь драться?…
Махилов подошел к Бедучевичу и стал в грозную позицию бойца. Бедучевич съездил Махилову по физиономии. Махилов поморщился и отплатил подобною же любезностью, опустив на голову противника свой кулак, от чего тот присел наполовину своего роста. Но и Бедучевич вытерпел удар; он выпрямился и схватил Максима Созонтыча в свои объятия. Завязалась борьба. Пляски и песни прекратились. Все окружили бойцов и даже полупьяные следили каждое их движение с полным вниманием.
Боролись первые бойцы тогдашнего курса, и потому можно понять, какой интерес имела эта битва для ч…го семинариста, который в минуту веселого расположения любит потешиться своим кулаком на спине товарища или городского обывателя, для которого игра в постные одно из лучших препровождении времени. Долго бойцы крутились. Никто из них не произносил ни слова, потому что оба они были бойцы искусные, опытные. Трудно было решить, на чьей стороне останется победа.
То сей, то оный на бок гнется.
Но вот Махилов понатужился, нажал Бедучевича под поясницу и в одно мгновение смял его под себя. Пользуясь положением противника, Махилов приподнял его за воротник и ударил спиной о половицу. Бедучевич сделал усилие, чтобы сшибить победителя кулаками, но Максим Созонтыч употребил маневр, который всегда играл важную роль в его битвах: он опустил свои тяжелые кулаки на плечи Бедучевича, отшиб их и таким образом лишил его возможности действовать руками.
– Живота или смерти? – спросил Махилов.
– Оставь меня!
– А четверть?
– Пусти, тебе говорят!
– Четверть: не то спину разломаю об пол.
– Пусти же, Махилов!
– Последнее слово: купишь ли четверть?
И Махилов опять было приподнял Бедучевича за воротник.
– Куплю! – проговорил сквозь зубы Бедучевич.
– Вот это другое дело.
Махилов выпустил из своих рук Бедучевича; Бедучевич молча, ни на кого не глядя от стыда, побрел в шинок за четвертью.
После битвы танцы и песни не возобновлялись. Собрались в кружки, и поднялись толки о силе и ловкости бойцов.
Мы послушаем, что говорит Чикадзе – грузинец, бог весть каким образом занесенный в ч…ю семинарию, и Зимченко – силач, как уже заметили мы, не из последних.
– Я всегда говорил Бедучевичу: не выходи с Махиловым один на один. «Эва, говорит, померяемся» – вот тебе и померялся!
– Ладно, и Махилов найдет свое, – отвечал Чикадзе.