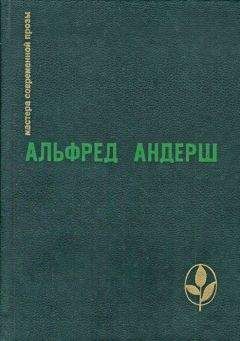Альфред Андерш
Любитель полутени
Сегодня мать что-то чересчур долго собиралась в дорогу; долгие сборы как-то не вязались с ней, она всегда была такой быстрой; в свои семьдесят три года она все еще казалась той же энергичной, решительной маленькой женщиной, какой он ее помнил всю жизнь. Лотар Витте должен был бы обратить внимание на эту ее странную медлительность, но он не обратил, и только к вечеру, незадолго до того, как произошло это несчастье под Баррентином, суждено ему было узнать, почему мать вопреки ее обычаю в то утро замешкалась в доме. Наконец она появилась на крыльце и пошла по садовой дорожке своей виллы во Фронау к «опелю», где Лотар, уже четверть часа назад уложивший в багажник их чемоданы, ожидал ее в какой-то досадливой полудреме. Он сидел и тупо смотрел на застроенную виллами и утопающую в зелени улицу, на серый, унылый дом, где он жил до конца войны и где его мать обитала до сих пор — теперь она большую часть дома сдавала, — и ясно сознавал, что он смотрит на годы, связанные для него с Мелани, не испытывая при этом особого волнения; вот уже несколько лет, бывая наездами в Западном Берлине, он мог спокойно навещать мать и бродить по этому дому, не опасаясь, что в памяти вновь встанет образ Мелани и он бросится сломя голову прочь, как бывало с ним в первые несколько лет после того злосчастного утра в октябре 1947 года, когда Мелани так внезапно и бесследно исчезла. Теперь, через четырнадцать лет, это перегорело — очевидно, перегорело, раз Лотар мог спокойно подремывать в машине, ожидая мать, вместо того чтобы сразу запустить мотор и рвануть с места. Но он был далек от такой мысли, вообще давно уже был далек от мыслей о Мелани и давно уже перестал упоминать ее имя, беседуя с Рихардом Брамом, ее мужем; в один прекрасный день они оба, не сговариваясь, покончили с ее культом, перестали чтить память исчезнувшей навсегда, и ее тень — такая прозрачная и легкая, какую могло отбрасывать только ее хрупкое смуглое тело, всегда облаченное в легкие ткани любимых ею светлых, чистых, блеклых тонов, — возникала перед ними только тогда, когда им нужно было обсудить что-либо, касающееся детей. В таких случаях озабоченный Брам приезжал из Ганновера в Гёттинген и подолгу советовался с Лотаром. Дети были трудные, причиняли кучу забот и расходов, они с Брамом перепробовали много школ, но толку не добились. Дети были их общей мукой. Впрочем, с некоторых пор все это кончилось-дети выросли и жили теперь сами по себе, — так что и эта сторона дела отошла в прошлое. Но даже о детях не думал Лотар Витте в то утро. Если не считать тех минут, когда в памяти всплывала вчерашняя чрезвычайно неприятная сцена в приемной профессора Тилиуса — а Лотар уже наловчился гнать от себя это воспоминание, — то утро вообще выдалось удивительно спокойное, и нарушало гармонию разве только мучительное желание выпить, терзавшее Лотара. А поскольку мать все еще возилась со сборами, то он наконец не выдержал и отхлебнул коньяку из фляжки, лежавшей в ящичке для перчаток. Спиртное подействовало почти мгновенно; ему вдруг открылась привлекательность совершенно пустынной улицы, затененной сплошной зеленой кровлей, мостовой из серовато-синих каменных плиток, ничего не отражавшей и не пересеченной ни единой тенью, будто не имевшей отношения ни к чему иному, кроме самой себя, — сухой и чистой мостовой поселка Фронау на окраине Западного Берлина, покоящейся под мощной защитой крон, закрывших небо.
Наконец мать вышла из дому; прижав локтем перекинутый через руку плащ и держа в той же руке потертую кожаную сумочку и перчатки, она торопливо направилась к машине. Маленькая, худощавая, в строгом темно-сером костюме, она держалась подчеркнуто прямо. Типичная пруссачка, подумал Лотар, протягивая руку, чтобы открыть ей дверцу, и глядя, как быстро и решительно шагает она по дорожке; прежде чем подойти к машине, она не забыла привычным движением захлопнуть за собой калитку. Мать, видимо, чувствовала себя слегка виноватой — ведь она заставила сына ждать, — что придавало ее лицу выражение еще более высокомерное, чем обычно; так было всегда, когда она теряла уверенность в себе. «На самом деле она вовсе не высокомерна, — подумал Лотар, — это только кажется, потому что она такая маленькая и подтянутая, да и нос у нее, будто она родом из аристократического семейства фон Квитцов или фон Коттвиц, а отнюдь не отпрыск простого сельского священника из Хавельской низины; а уж рот и вовсе — четкий и сжатый, как девиз в родовом гербе». «Точь-в - точь такой представляешь себе вдову прусского подполковника», — обычно говорили друзья Лотара после того, как их знакомили с ней, на что тот сухо возражал, что сам Подполковник, его отец, напротив, отнюдь не был похож на пруссака. «А на кого?» — бывало, вырывалось у кого-нибудь, и Лотар иногда вытаскивал фотографию, на которой отец был снят на польском фронте, незадолго до боя под Шамотулами в сентябре, где он и погиб, — крупный расплывшийся мужчина, настолько похожий на Лотара, что спрашивавший уже смущенно глядел на фото. Почему-то было неприятно видеть постаревшего Лотара в форме старшего офицера, с явным раздражением глядящего куда-то в сторону. Война ли была тому причиной, проступок ли какого - нибудь солдата или просто непогода, но старый Витте, по непонятным причинам оставивший одного-единственного сына - Лотара, — незадолго до своей смерти смотрел на то, что преподносила ему жизнь, точь-в-точь так, как Лотар подчас мог смотреть на кого-нибудь из своих друзей: с холодным, осуждающим интересом.
— Что это ты там застряла? — спросил Лотар, помогая матери устроиться на сиденье.
— Да так, ничего особенного, — ответила она немного взволнованно. Он не очень вслушивался в ее тон и счел вопрос исчерпанным, когда она, уже овладев собой, добавила: — Мне пришлось долго искать перчатки.
Уже на Тегельском шоссе Лотар вновь вспомнил о фляжке с коньяком и решил при первом удобном случае незаметно вынуть ее из ящичка для перчаток и сунуть в карман пиджака. Вдали под блекло-серым куполом неба четко вырисовывались плоские башни концерна «Сименс». «Приятный день сегодня», — подумал Лотар. Он любил такую серую, нейтральную погоду. В такую погоду поездка в Гамбург — одно удовольствие. Его матери захотелось навестить тамошних родственников, и он сам предложил отвезти ее туда на машине — у него как раз начались семестровые каникулы, и небольшой крюк на север очень его привлекал. Ведь они поедут через западные районы Бранденбурга и южные — Мекленбурга, так что у него, впервые после стольких лет, будет возможность увидеть те места, которые в прошлом так много для него значили.
Мать приняла его предложение, хотя и не без колебаний. «Ты ведь знаешь, я не люблю ездить на машине», — напомнила она, но Лотар догадался, что она просто боится, не начал бы он в дороге пить.
— Пора бы тебе рассказать, чем кончились вчера переговоры, — начала она. — Получишь ты штатное место в Берлине?
Лотар отрицательно покачал головой. Ему пришлось лавировать в потоке машин, поэтому он ответил не сразу:
— Они не хотят меня брать.
Сказав это, он живо вспомнил, как сидел вчера в кафе на Курфюрстендамм в ожидании часа, назначенного ему профессором Тилиусом. Хотя день был солнечный, Лотар выбрал местечко в помещении — правда, не в темной глубине зала, а поближе к большим открытым окнам, — но все же не сел за один из столиков снаружи. Оттуда он мог наблюдать за жизнью на улице, не уподобляясь пещерному зверю, которого замечают по горящим во мраке глазам. Он сидел скромно и незаметно, в нейтральной полосе, где свет и мрак перемежаются, образуя полутень, в которой ему особенно хорошо думалось. Женщин, сидевших снаружи за столиками под большим полосатым тентом, он подолгу разглядывал, а гуляющих по бульвару провожал глазами, раздумывая, не познакомиться ли ему с какой-нибудь из них; но коньяк, который он между тем потягивал, уже подавил его волю; так он и сидел, грузно развалясь на стуле, а стопка купленных только что журналов лежала перед ним нетронутой — он хотел их наскоро проглядеть, да так к ним и не притронулся; мысли то крутились вокруг темы его лекций в Гёттингене, то перескакивали на женщин, на которых он время от времени украдкой поглядывал; платья и прически в его мозгу чередовались с отрывками из трактатов Амори де Бена, умершего в 1206 году, а фраза: «Omnia unum, quia quidquid est, est deus»[1] — вдруг отпечаталась на фоне какого-то ярко-желтого портняжного шедевра, изготовленного в берлинском ателье и увенчанного прядями длинных темных волос, словно развеянных ветром по плечам в точном соответствии с требованиями моды. В голову лезли еще и соображения о том, насколько лучше было бы ему все же в Западном Берлине, чем в Гёттингене. Лотара отнюдь не тяготил провинциальный дух, царивший в Гёттингене, просто город этот ничего не говорил его сердцу, хотя пример Лихтенберга подчас и скрашивал его существование. Но в конце концов ведь и тот предпочел бы профессуру в Берлине жизни в Гёттингене. Лихтенберг в Гёттингене был мертв и забыт, а вот Фонтане в Берлине странным образом все еще жил и процветал, и его процветанию почему-то не мешало, что и в Нойруппин, и в долину Доссе проезд был — к сожалению! — закрыт. Сидя в уютном кафе, Лотар думал о своих любимых авторах, сдержанных, суховатых, и воображал их на фоне шикарных авеню и живописных ландшафтов с соснами. Наконец ему удалось обменяться взглядами с хорошенькой светловолосой девицей, сидевшей за одним из столиков под тентом наискосок от него; но уже через несколько минут он остыл и вновь впал в ленивую полудрему. С тяжелым сердцем он в который уж раз признался самому себе, что на самом дне его склонности к трезвым суждениям и к полутени лежало нечто противоречившее этой склонности: ведь его погружения в царство полутени удавались ему, как правило, только с помощью алкоголя, а эта слабость, нередко доводившая его до непотребного состояния, как-никак была пагубной страстью. Он заказал еще одну рюмку «Реми - Мартена»-уже третью — и, прежде чем подняться и уйти, выпил ее маленькими глотками; время подошло к пяти часам, солнце скрылось, пора было идти в университет.