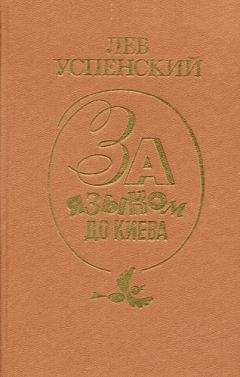И так им и прошения тамошние люди пишут: «Суди меня, судья неправедный!»
А. Н. Островский
Суд Соломона — мудрый и милостивый суд, основанный на разуме и совести.
Фразеологический словарь
Дед мой с материнской стороны — Алексей Измайлович Костюрин, прежде чем скончаться в 1902 году, «наломал дров», если только можно в разговоре о начале века употреблять такого рода выражения.
Еще в восьмидесятых годах прошлого века он был всеми уважаемым, разумным и рачительным хозяином, главою семьи, состоявшей из жены, сына и трех дочерей.
К концу девяностых годов все это пошло хинью.
«Щукинский барин» в понимании окрестных мужиков явно стал «цудить». Он забросил все дела, опустился и превратился ни с того ни с сего во что-то среднее между Федором Павловичем Карамазовым, если от того полностью отнять все признаки «инфернальности» и оставить только «и цыпленочку», и Мишукой Налымовым А. Толстого. Впрочем, конечно, он был и ни то и ни это, а сам себе образец. И почему такое с ним случилось, я знаю очень хорошо.
В свое время я нашел на щукинском чердаке дедовскую приходно-расходную книгу за годы с 1891-го по 1901-й. В ней нет ничего, кроме того, что в таких книгах и должно содержаться, — записей трат и доходов.
Но, на мой взгляд, мало можно найти на земле более трагических по содержанию рукописей.
На протяжении нескольких сотен разграфленных, как и положено в гроссбухах, страниц даже самый беглый и не посвященный в тайны психиатрии взгляд безусловно увидит историю полного и катастрофического разложения личности под влиянием какого-то — я не берусь определить, какого — психического заболевания.
Начальные листы книги исписаны аккуратным, четким почерком. Все, даже самые малые, поступления в дом оприходованы. На каждую, даже ничтожную «убыль» приложены оправдательные документы: там корявая расписка золотаря, тут — почтовая квитанция. Во всем заметна система и привыкшая к строгому порядку твердая рука.
Но по мере течения годов все изменяется, начиная с почерка. Сначала буквы начинают плясать, слова сливаться друг с другом. Концы строк, недавно вытянутые как по уровню, все сильнее загибаются то вниз, то вверх. Начинают выпадать буквы из слов, слова из предложений… Почтовые квитанции сначала приклеиваются уже не горизонтально, а наискось, потом «изнанкой» кверху, и наконец уж — одна прямо, вторая — вверх ногами…
И вот нельзя различить ни слов, ни цифр — все превратилось в бесконечные пряди полустрок, полуросчерков, вытянутых слева направо по страницам, как космы водорослей в струях быстротекущей реки… Нельзя уже разобрать хотя бы двух-трех слов подряд. И только периодически, на равных расстояниях друг от друга, видимо, примерно раз в неделю, из этой свистопляски чернильных росчерков выделяется, как какое-то «менэ-тэкел-фарес», как таинственное и грозное напоминание о том, что тот, кто эту кудель запутанных линий вытягивал по строчкам неверной рукой, когда-то был человеком, одно по-прежнему ясно и четко выведенное предложение:
«Ольге Жуковой — 1 р.».
Словом, вопрос ясен: дворянин Алексей Костюрин к старости лет своих заболел душевной болезнью.
Это вызвало два неизбежных следствия. Во-первых, распалась семья. Сын — я не знаю, как именно — погиб при несчастном случае где-то в Царстве Польском (он был офицером). Младшая дочка скончалась от менингита. Старшая вышла замуж, и, наконец, жена, моя бабушка, и средняя дочь, моя мать, не в силах выносить того, что происходило на их глазах с дедом, уехали от него в Петербург.
Это было первым следствием. Вторым, тесно связанным с первым, оказалось вот что. Как и естественно было в те времена, потерявшего всякую власть над собой человека немедленно окружила целая шайка приспешников и поставщиков удовольствий, охотно соглашавшихся за свои услуги получать не наличными, а векселями, которые дед вскоре стал подписывать, даже не читая, даже не вглядываясь в проставленные там цифры, а то и не заботясь о том, проставлены ли они на самом деле.
Словом, едва только гроб с прахом дворянина Костюрина опустили под кирпичный свод родового склепа в Михайловом Погосте, у южной стены старой голубенькой деревянной церкви Успения, как наследницам его — бабушке, маме и тете Жене (к этому времени обе дочери были уже замужними) — были вчинены многочисленные иски по опротестованным векселям, которые предъявили разные лица.
Что это были за «лица»? Я бы мог перечислить здесь большинство из них поименно, но зачем? У них родились и уже состарились дети, у них, возможно, живы внуки… Жизнь и детей и тем более внуков ничем уже не напоминает жизнь их отцов и дедов… Так чего ради смущать их покой моими «разоблачениями»! Скажу одно: держателями векселей были несколько человек из крестьян побогаче, да из числа мещан, занимавшихся кое-каким ремеслом или торговлишкой в принадлежавшем деду торговом Михайловом Погосте. И общая сумма всех их исков (иски эти каким-то образом вскоре, очевидно по сговору между векселедержателями, объединились в один совокупный иск) достигла, как мне сейчас представляется, двадцати тысяч рублей. С тех пор как это случилось, прошло семь десятков лет. Того сложнее: за эти годы смысл и значение, которое мы вкладывали в понятие «рубль» (или «тысяча рублей»), столько раз изменялись, что так просто названная сумма решительно ничего не говорит слуху и взгляду моего сегодняшнего младшего современника.
Попробую показать, что такое были тогдашние двадцать тысяч.
Ну, скажем, в Псковской губернии тех дней на эти деньги можно было бы приобрести имение примерно в четыреста или пятьсот десятин («душевой» надел скобаря-крестьянина не превосходил четырех десятин с какими-то десятыми).
Чтобы выплатить все деньги по этим искам, отцу моему, в те годы надворному советнику и петербургскому чиновнику, пришлось бы отдавать все, что он получал в качестве жалованья, в течение по меньшей мере пяти лет. Моему же дяде Михаилу Тимофееву, в то время артиллерийскому армейскому поручику, понадобилось бы для такой расплаты по меньшей мере лет десять, если не больший срок, — военные в те времена получали несравненно меньше «штафирок».
Вспомним Антона Павловича Чехова: и за свое Мелихово, и за ялтинский участок земли, и уж тем более за еще одну крымскую «землицу», которую он на какой-то короткий срок приобрел между Ялтой и Байдарскими воротами[1], он уплатил цены существенно меньшие, нежели эти двадцать тысяч.
Напротив того, всего лишь пятьдесят тысяч рублей Адольф Маркс заплатил Чехову за право пожизненного издания и переиздания всего, что им было ко времени подписания договора написано; а ведь это написанное было три четверти того, что мы теперь именуем: «Чехов».
Да что там говорить: имея двадцать тысяч рублей, человек не слишком притязательный мог спокойно купить преуютненький домик в любом русском уездном городке и на оставшиеся средства прожить с небольшой семьей — не роскошно, конечно, но и отнюдь не влача нищенского существования — долгую и мирную жизнь, ни в чем особенно не нуждаясь.
Словом, двадцать тысяч рублей в тысяча девятьсот втором году составляли «куш», отдать который кому-то ни за что ни про что, в совершенном убеждении, что деньги эти были бесчестным образом выманены у человека умственно расстроенного, было и принципиально возмутительно, да и фактически немыслимо.
Впрочем, почему «немыслимо»? Мыслимо! Стоило продать Щукино и полученные деньги обратить на уплату по иску, и все было бы кончено.
Да, но ведь и для бабушки, и для тети Жени, и в особенности для моей мамы «продать Щукино» было равносильно жизненной катастрофе, полному нравственному краху. «Наше Щукино» было тогда для них (а после и для нас с братом), может быть, даже чем-то большим, нежели «вишневый сад» для его растерянных владельцев.
В конце концов зятья деда — мой отец и уже упомянутый мною дядя Миша — без особенного, может быть, желания приняли на себя реальную ответственность по этому делу и разрешили женам отказаться от уплаты по иску. С этого дня над моей семьей, а также над моим детством и юностью взошло и нависло мрачноватое, попервоначалу имевшее вокруг себя ореол какой-то полусказочной таинственности, слово процесс.
Вот, скажем, бабушка тихо и мирно живет с нами в Петербурге, покуривая свой любимый табачок «Бр. Месаксуди» из гильз фирмы «Режи», повязывая от нечего делать хорошенькими костяными или деревянными челночками причудливые кружева, именуемые «фриволитэ», из которых она потом изготовляет красивые покрывала на кровати. И вдруг она начинает нервничать, тревожиться, суетиться и внезапно, уложив свои саквояжи, уезжает на какое-то время в Великие Луки.