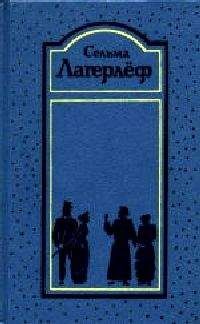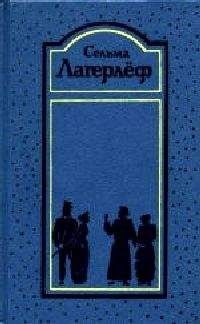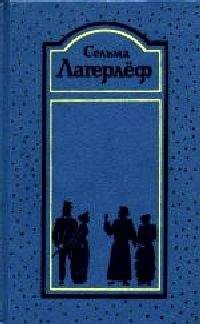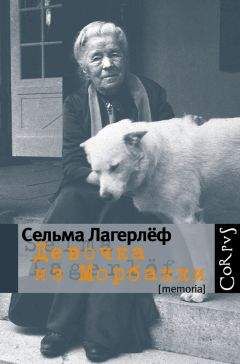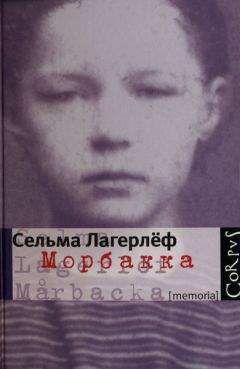Лагерлёф С
Перстень Лёвеншёльдов
Знаю я, бывали в старину на свете люди, не ведавшие, что такое страх. Слыхивала я и о таких, которые за удовольствие почитали пройтись по первому тонкому льду. И не было для них большей отрады, чем скакать на необъезженных конях. Да, были среди них и такие, что не погнушались бы сразиться в карты с самим юнкером Алегордом, хотя заведомо знали, что играет он краплеными картами и оттого всегда выигрывает. Знавала я и несколько бесстрашных душ, что не побоялись бы пуститься в путь в пятницу или же сесть за обеденный стол, накрытый на тринадцать персон. И все же сомневаюсь, хватило бы у кого-нибудь из них духу надеть на палец ужасный перстень, принадлежащий старому генералу из поместья Хедебю.
Это был тот самый старый генерал, который добыл Лёвеншёльдам и имя, и поместье, и дворянское достоинство. И до тех пор, пока поместье Хедебю оставалось в руках у Лёвеншёльдов, его портрет висел в парадной гостиной на верхнем этаже меж окнами. То была большая картина, занимавшая весь простенок от пола до потолка. Издали казалось, будто это Карл XII[1] собственной персоной, будто это он стоит здесь в синем мундире, в больших замшевой кожи перчатках, упрямо попирая огромными ботфортами пестрый, в шахматную клетку, пол. Но подойдя поближе, вы видели, что изображен был человек совсем иного рода.
Над воротом мундира возвышалась могучая и грубая мужичья голова; казалось, человек на портрете рожден, чтобы пахать землю до конца дней своих. Но при всем своем безобразии малый этот был с виду и умен, и верен, и славен. Явись он на свет в наши дни, он мог бы стать по меньшей мере присяжным заседателем в уездном суде, а то и председателем муниципалитета. Да, кто знает, может статься, он и в риксдаге бы заседал.[2] Но поскольку жил он во времена великого доблестями короля, он отправился на войну; туда пошел бедным солдатом, а вернулся домой прославленным генералом Лёвеншёльдом; и в награду за верную службу жалован был от казны имением Хедебю в приходе Бру.
Словом, чем дольше вы разглядывали портрет, тем больше примирялись с обликом генерала. Казалось, вы начинали понимать — да, таковы и были они, те самые воины, что под началом короля Карла XII проложили ему путь в Польшу и Россию.[3] Его сопровождали не только искатели приключений и придворные кавалеры, но и такие простые и преданные люди, как этот вот на портрете. Они любили его, полагая, что ради такого короля стоит и жить и умереть.
Когда вы рассматривали изображение старого генерала, рядом всегда оказывался кто-нибудь из Лёвеншёльдов, чтобы заметить невзначай: это-де вовсе не признак тщеславия у генерала, что он стянул перчатку с левой руки, дабы художник запечатлел на портрете большой перстень с печаткой, который старый Лёвеншёльд носил на указательном пальце. Перстень этот жалован был ему королем, а для него на свете существовал лишь один-единственный король. И перстень был изображен вместе с генералом на портрете, дабы засвидетельствовать, что Бенгт Лёвеншёльд остался верен Карлу XII. Ведь немало довелось ему выслушать злых наветов на своего повелителя![4] Осмеливались даже уверять, будто неразумием своим и своевольством он довел державу чуть не до погибели; но генерал все равно оставался ярым приверженцем короля. Ибо король Карл был для него человеком, равного которому не знал мир! И тому, кто был близок к нему, довелось узнать, что есть на свете нечто такое, что прекраснее и возвышеннее славы мирской и успехов и за что стоит сражаться.
Точно так же как Бенгт Лёвеншёльд пожелал, чтобы перстень был запечатлен вместе с ним на портрете, пожелал он взять его с собой и в могилу. И тут дело было вовсе не в тщеславии. У него и в мыслях не было похваляться тем, что он носит на пальце перстень великого короля, когда он предстанет пред господом Богом и сонмом Его архангелов. Скорее всего он надеялся, что лишь только он вступит в ту залу, где восседает окруженный своими лихими рубаками Карл XII, перстень послужит ему опознавательным знаком. Так что и после смерти ему доведется быть вблизи того человека, которому он служил и поклонялся всю свою жизнь.
Итак, когда гроб генерала опустили в каменный склеп, который он приказал воздвигнуть для себя на кладбище в Бру, перстень все еще красовался на указательном пальце его левой руки. Среди провожавших генерала в последний путь нашлось немало таких, кто посетовал, что подобное сокровище последует за покойником в могилу, ибо перстень генерала был почти столь же славен и знаменит, как он сам. Толковали, будто золота в нем столько, что хватило бы на покупку целого имения и что алый сердолик с выгравированными на нем королевскими инициалами стоил ничуть не меньше. И все полагали, что сыновья генерала достойны всяческого уважения за то, что не противились отцовской воле и оставили эту драгоценность при нем.
Если перстень генерала и в самом деле был таков, каким он изображен на портрете, то это была преуродливая и грубая вещица, которую в нынешние времена вряд ли кто пожелал бы носить на пальце. Однако перстень Лёвеншёльдов необычайно ценился двести лет тому назад. Нельзя забывать, что все украшения и сосуды из благородного металла надлежало тогда за редким исключением сдавать в казну,[5] что приходилось бороться с Гёртцовыми далерами и с государственным банкротством и что для многих золото было чем-то таким, о чем они знали только понаслышке и чего никогда в глаза не видывали. Так и случилось, что в народе не могли забыть про золотой перстень, который был положен в гроб без всякой пользы для людей. Многие были готовы считать даже несправедливым, что он лежал там. Ведь его можно было продать за большие деньги в чужие страны и добыть хлеб тому, кому нечем было кормиться, кроме как сечкой и древесной корой.
Но хотя многие и желали завладеть этой великой драгоценностью, не нашлось никого, кто бы вправду помышлял присвоить ее. Перстень так и лежал в гробу с привинченной крышкой, в замурованном склепе, под тяжелыми каменными плитами, недоступный даже самому дерзкому вору; и думали, что так он и останется там до скончания веков.
В марте месяце года 1741-го почил в бозе генерал-майор Бенгт Лёвеншёльд, а спустя несколько месяцев того же года случилось так, что маленькая дочка ротмистра Йёрана Лёвеншёльда, старшего сына генерала, жившего в ту пору в Хедебю, умерла от кровавого поноса. Хоронили ее в воскресенье, тотчас после службы, и все молельщики прямо из церкви последовали за погребальным шествием и проводили покойницу к Лёвеншёльдовой фамильной гробнице, где обе огромных могильных плиты были сдвинуты на самый край. В своде склепа под плитами каменщик сделал пролом, дабы гробик мертвого дитяти можно было поставить рядом с дедушкиным.
Покуда прихожане, собравшиеся у склепа, внимали надгробному слову, может статься, кое-кто и вспомнил о королевском перстне и посетовал на то, что вот лежит он, дескать, сокрытый в могиле без всякой пользы и радости.
А может, кое-кто и шепнул соседу, что теперь не так уж и трудно добраться до перстня: ведь до завтрашнего дня склеп вряд ли замуруют.
Среди тех, кого тревожили подобные мысли, был и некий крестьянин из усадьбы Мелломстуга в Ольсбю; звали его Борд Бордссон. Он был вовсе не из тех, кто стал бы горевать до седых волос из-за перстня. Напротив того, когда кто-нибудь заводил речь про перстень, Борд обычно говорил, что у него-де и так хорошая усадьба и ему незачем завидовать генералу, унеси он с собой в могилу хоть целый шеффель[6] золота.
И вот теперь, стоя на кладбище, Борд Бордссон, как и многие другие, подумал: «Чудно, что склеп останется открытым». Но не обрадовался этому, а обеспокоился. «Ротмистру, пожалуй, надо бы приказать, чтобы склеп замуровали нынче же после полудня, — подумал он. — Найдутся такие, кому приглянется этот перстень».
Дело это его вовсе и не касалось, но как бы то ни было, а он все больше и больше свыкался с мыслью, что опасно оставлять склеп открытым на ночь. Стоял август, ночи были темные, и если склеп не замуруют нынче же, то туда может пробраться вор и завладеть сокровищем.
Его охватил такой страх, что он уже начал было подумывать, не пойти ли ему к ротмистру, чтобы предупредить его. Но Борд твердо знал, что в народе он слывет простофилей, и ему не хотелось выставлять себя на посмешище. «В этом деле ты прав, это уж точно, — подумал он, — но ежели выказать излишнее усердие, тебя поднимут на смех. Ротмистр — малый не промах и уж непременно распорядится, чтобы заделали пролом».
Он так углубился в свои думы, что даже не заметил, как погребальный обряд окончился, и продолжал стоять у могилы. И простоял бы еще долго, если бы жена не подошла к нему и не дернула за рукав кафтана.