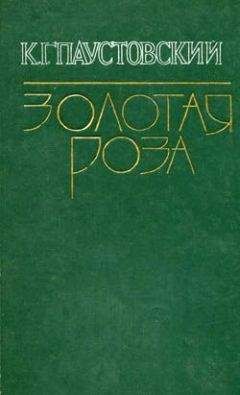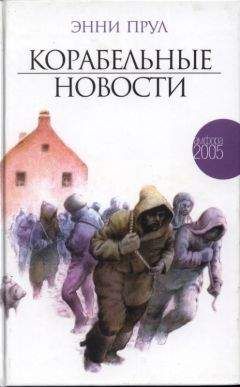Константин Паустовский
Северная повесть
Ботнический залив был скован льдом. Высокие сосны трещали от стужи. Непрестанный ветер сдувал со льда сухой снег. Залив угрюмо блестел по ночам, как черное стекло, и отражал звезды.
Офицеры Камчатского полка, греясь у трескучих каминов, вспоминали стихи Евгения Баратынского о том, как «чудный хлад сковал Ботнические воды». Многие еще помнили Баратынского. Изредка они рассказывали о молчаливом поэте, тяготившемся службой в пехотном полку в крепости Кюмель, о печальном «певце Финляндии», и завидовали его спокойной славе.
Камчатский полк стоял в то время на Аландских островах, в городке Мариегамне.
Издавна Аландские острова считались родиной парусных кораблей. Здесь, в отдалении от беспокойных столиц, в пустынности маленького северного архипелага, жили знаменитые корабельные мастера. Они строго хранили и передавали старшим сыновьям законы своего искусства. Равнодушно закусив трубки, они смотрели на дым от первых «пироскафов», грязнивших чистые морские горизонты: «Все равно пар никогда не справится с океаном».
Каждую осень на острова возвращались для починки высокие бриги и клипера, барки и бригантины. Они приходили из Карибского моря, из Леванта и Шотландии, из всех углов земли. Приводили их шведские шкипера – неразговорчивые и честные люди.
Зимой корабли вмерзали в лед, их засыпало снегом. Офицеры Камчатского полка, выбегая во двор проветриться от винного и табачного чада во время пирушек, видели перед собой темные кузова кораблей, желтые фонари на смерзшихся частях и слышали шум ветра в толстых реях.
К кораблям быстро привыкли, как привыкают к домам, к деревьям на улице, к полосатым будкам часовых. Их перестали замечать. Только в те редкие ясные дни, когда над ледяным заливом подымалось белое солнце, офицеры, солдаты и жители Мариегамна жмурились от блеска кораблей, заросших инеем, и удивлялись красоте этого зрелища.
Казалось, что косматая зима устроила себе жилье на кораблях. Комья снега слетали со снастей и с шорохом разбивались о палубы. Сосульки искрились и звенели. Колкие ледяные розы расцветали на иллюминаторах. Слоистый дым из камбузов стоял в снастях весь день до заката, когда он делался багровым, как дым ночного сражения, и постепенно превращался в черную мглу.
Время было неясное и неспокойное. Кончался январь 1826 года. Недавно пришли известия из Петербурга о декабрьском восстании и сражении на Сенатской площади.
Командир Камчатского полка Киселев, бывший забулдыга гусар, переведенный в пехоту за дуэли и нечистую карточную игру, приказал выставить по островам караулы. Мера эта казалась офицерам излишней. Они посмеивались над ней, но никто не решался возразить командиру.
Киселев был человек самомнительный и не терпел своеволия. Он участвовал в войнах с Наполеоном, но ни разу не был не только ранен, но даже поцарапан саблей. «Для меня еще не отлита пуля», – говорил он хвастливо.
Передавали, что в 1814 году, после занятия Парижа, он сидел как-то в одном парижском кабачке. Вошли пятеро французов. Они потребовали пять пустых стаканов и одну бутылку шам-панского. Киселев тотчас приказал подать себе один пустой стакан и пять бутылок шампанского, выпил все бутылки до дна и твердо вышел из кабачка под громкие рукоплескания пьяных посетителей.
О Киселеве офицеры Камчатского полка сложили эпиграмму:
Поля сражения для труса безопасны,
Он, славу бранную переменив на ром,
Громит врага за ломберным столом
Отменно и всечасно.
Полковым адъютантом был немец, заика Мерк, человек твердых жизненных правил, службист и любитель музыки.
Мерк заставлял полковой оркестр играть на плацу по нескольку часов во время жестоких морозов. Кровь текла у музыкантов по лопнувшим, обожженным холодной медью губам. Слюна примерзала к трубам. Седой морозный дым висел над ревущими тромбонами.
Когда оркестр, сыграв полковой марш, затихал, Мерк выходил на крыльцо в накинутой на плечи шинели и кричал заикаясь:
– Слышу скрип сапог! Грязно играете, братцы! Повторяйте марш, пока не будет ни единого лишнего звука.
Солдаты коченели от холода и играли. Они переминались с ноги на ногу очень тихо, чтобы Мерк не услышал скрипа сапог, но у заики был очень тонкий слух, и обмануть его не удавалось. Почти у всех музыкантов были обморожены ноги.
Мерк считал себя человеком прямым, правдивым. В полку его недолюбливали и боялись. Он говорил офицерам: «Вы, сударь, не умеете прилично есть рыбу – это срам», «Отучитесь наконец, поручик, трясти ногой под столом».
Финляндия была покорена недавно. Еще у всех в памяти был знаменитый переход русской армии по льду замерзшего Ботнического залива к берегам Швеции. Славу этого похода не могли затмить даже недавние победы над французами.
Гарнизонная служба в Финляндии считалась очень тяжелой. Ее приходилось нести среди сурового и молчаливого народа. Особенно трудна была служба в Камчатском полку, расквартированном на Аландских островах. Летом из Петербурга и Гельсингфорса еще приходили на острова корабли, зимой же единственная дорога на берег лежала по жгучим льдам. Но чаще всего залив замерзал только около берегов, и тогда на острова нельзя было попасть ни на корабле, ни на лошадях.
В Камчатский полк ссылали провинившихся офицеров. Среди них был прапорщик Бестужев, недавно произведенный в офицеры из солдат.
Бестужев попался на улице в Петербурге великому князю Михаилу Павловичу в меховой шапке вместо офицерского кивера. Был ветреный, холодный вечер. Бестужев страдал после ранения в висок под Бородином сильной мигренью и надел шапку, чтобы не простудить голову. Великий князь сорвал с Бестужева шапку и хотел бросить ее на землю. Бестужев вырвал шапку из рук князя, надел ее и пошел своей дорогой, не оборачиваясь на грозные приказы остановиться.
На допросе Бестужев сказал:
– Честь свою я почитаю выше присяги.
Об этом доложили императору Александру. Тотчас последовал приказ о разжаловании поручика Бестужева в солдаты и отправке его в Камчатский каторжный полк.
Солдат Семен Тихонов стоял в карауле около маяка Эрасгрунд. Низенький каменный маяк был построен на островке против Мариегамна. На караул нужно было ходить через узкий замерзший пролив.
На маяке жил только сторож – старый глухой швед, бывший шкипер. Весь день он что-то сердито бормотал, жевал сухими желтыми губами и искоса поглядывал на заиндевелого солдата в башлыке, заходившего в сторожку греть красные большие руки.
– Ты не бранись, дед! – кричал Тихонов простуженным голосом. – Будто я по своей воле тут топчусь, холоду напускаю. Царская служба, она, дед, не житье, а каторга. Понял?
Дед молчал. Тихонов садился на корточки около печки. Его замерзшая шинель стучала по полу, как деревянная.
– Эх, беда, беда! – говорил, сокрушаясь, Тихонов и затирал сапогами лужи, натекавшие с шинели на чистый кирпичный пол.
Швед кивал головой.
– Понимаешь, значит? – спрашивал Тихонов. – Да и как не понять, когда мы люди простые, с малолетства к работе приучены. Ты сторожишь, и я сторожу. Только чего я сторожу – об том один Господь Бог ведает да его высокородие полковник Киселев.
– О-о-о! – говорил швед.
– Вот то-то что «о-о-о»! – сердито отвечал Тихонов. – Злодейский командир наш Киселев. Один во всем полку стоящий человек – прапорщик Бестужев, мой полуротный командир, а твой постоялец.
Бестужев снимал комнату в Мариегамне у маячного сторожа. Старик все дни проводил на маяке. В Мариегамн он возвращался только по воскресным дням. Прислуживали прапорщику жена старика, седая старушка, и дочь Анна – темноволосая застенчивая девушка, бегавшая на лыжах как мальчик.
Анна недавно кончила школу в Стокгольме, а теперь жила у родителей, помогала матери и все вечера напролет читала.
– Бестужев… – прошамкал старик, улыбнулся и похлопал Тихонова по шинели, вздувшейся горбом на спине. – О-о-о! Бестужев!
– Верно, лед, – сказал Тихонов и с удовольствием вытер лицо шершавой ладонью. – Ничего не скажешь, наш полуротный – душа человек!
Тихонов выкурил трубку крепкого табаку и, гремя ружьем и тесаком, вышел из сторожки. Он захлопнул дубовую черную дверь, зажмурился от колючего снега, ударившего в глаза, и перекрестился.
– Ну и морок, упаси Господи!
Тяжелая январская ночь стояла вплотную около тускло освещенных окон сторожки. Маяк не горел: зимой он был не нужен.
Тихонов ходил по берегу с ружьем на плече, часто останавливался и стоя дремал.
Изредка в заливе лопался от мороза лед. Унылый гул долго катился к берегам. Тихонов встряхивал головой, чтобы прогнать сон, ругался и хрипло кричал:
– Слуша-а-ай!
Кричал он по привычке. Вблизи часовых не было, и никто на его крик не отзывался. Только старый швед в сторожке каждый раз после этого крика медленно вставал, поправлял дрова в печке, возвращался к столу и продолжал читать толстую желтую Библию.