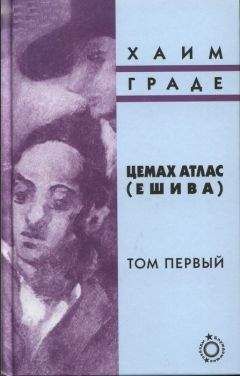— Пошли уже, — тянет меня мама. — Он хочет быть сразу всем: и птицеловом, и каменотесом, и крестьянином в поле, только учиться он не хочет.
Мы идем по мосту через Вилию[45], и я не могу оторвать взгляда от пловцов, прыгающих в реку с высокого берега, плавающих по-собачьи и саженками. Мама крепко держит меня за руку и беспокойно озирается, словно я сам намерен прыгнуть в воду.
— Господь на небесах знает, как часто у меня содрогается сердце, когда ты пропадаешь на полдня. Я тогда боюсь, что ты побежал купаться. Сказать по правде, это совсем не удивительно, что тебя так тянет на реку и к крестьянскому труду. Твоему отцу тоже однажды захотелось бросить свой хедер и стать хозяином фольварка[46] с кирпичным заводом. Он подписал пачку векселей и купил этот самый фольварк. Кончилось это тем… Лучше не спрашивай, чем это кончилось. Евреям в царские времена запрещалось покупать землю, так что отец сделал это через иноверца: для видимости он взял этого необрезанного в компаньоны, а тот присвоил и деньги, и землю.
Когда мы поднимаемся в квартиру моего брата, я вхожу с мамой к отцу, в его отдельную комнату. Прибегает Арончик, сын Моисея и мой племянник, костлявый мальчишка моих лет. Мы начинаем носиться по комнатам — и я неожиданно вваливаюсь в зал.
Я замираю растерянный. За столом сидит мой брат Моисей, напротив — его жена Тайбл, а в центре — ее брат, аптекарь Исаак. Они пьют чай, едят фрукты и непринужденно беседуют.
У аптекаря Исаака пара холодных рыбьих глаз, красное лицо и длинные острые усы, похожие на рачьи клешни. Он сидит неподвижно, как глиняный истукан, но его усы живут своей особой жизнью. То они застывают в воздухе, то начинают шевелиться на его красном лице. Несмотря на то что он ходит в гости к моему брату каждую субботу, его холодные рыбьи глаза всегда смотрят на меня с удивлением, словно видят меня впервые. Его усы превращаются в вопросительные знаки, и он спрашивает Моисея:
— Кто это?
— Вы ведь уже знаете, Исаак. Это сын моего отца от второго брака.
Так говорит своему шурину Моисей и при этом улыбается мне, словно ему самому странно, что у него есть братишка в возрасте его сына.
— Моисей, — говорит аптекарь, — ваш отец, кажется, образованный человек, учитель древнееврейского языка, а не какой-то замшелый меламед в засаленной одежде, так почему же он позволяет своему сыну шляться по улицам? Его надо отдать в интернат и строго наказывать.
Мой брат перестает улыбаться. Его лицо с черной бородкой вытягивается от обиды, однако он сдерживается и не возражает шурину.
— Его мать — очень достойная женщина, — вмешивается Тайбл.
Проходит немало времени, прежде чем она, заикаясь, произносит эту фразу, и, словно желая загладить медлительность речи, она проворно берет из вазы яблоко и протягивает его мне:
— На.
Произнося это, она не заикается. Аптекарь Исаак, похоже, тоже хочет загладить возникшую по его вине неловкость. Он говорит:
— Этот парень, когда вырастет, должен поехать в Палестину. Такие там нужны, чтобы осушать болота.
Больше он не удостаивает меня взглядом. Когда я выхожу из зала, мой племянник Арончик утешает меня:
— Ты не слушай моего дядю. Пусть сам едет осушать болота. Я его ненавижу. От него пахнет лекарствами, и он все время меня экзаменует. Папа его тоже ненавидит.
— Знаешь, — говорю я своему племяннику, — я видел дом, где было очень много птиц в клетках.
— Всех птиц надо выпустить на волю, — заявляет он.
— А что бы ты сделал со змеями? — спрашиваю я. — Я видел там стеклянный сосуд со змеями, такими же длинными и закрученными, как усы твоего дяди Исаака.
— Змей надо раздавить, — жестко и уверенно отвечает Арончик.
— А знаешь, — хвастаю я своему племяннику, — мама хочет отдать меня петь в хоральную синагогу. Там носят цилиндры, а у дверей стоит швейцар-иноверец в длинном пиджаке с серебряными пуговицами. Только странно, что, когда мы идем мимо, там всегда закрыто. Когда же они там молятся?
— Не надо молиться, — говорит Арончик, — пошли к дедушке. У него на носу растут волосы, и я их вырываю.
Отец уже может слезть с кровати, он сидит на стуле и расспрашивает мою маму, как у нее шли дела на этой неделе. Когда мы с Арончиком входим в комнату, он учиняет нам допрос:
— Я поставил стакан молока между оконными рамами на кухне. Кто из вас снял сливки с кислого молока?
— Я, — нахально отвечает Арончик. — Если хочешь, можешь сказать маме.
Мама подзывает меня и шепчет, чтобы не услышали в соседних комнатах:
— Горе мне! И в таком виде ты вошел в зал? Я от стыда готова заживо сойти в могилу!
В комнату входит Тайбл, чтобы перестелить отцу постель и перебинтовать его больные ноги. Она работает проворно и ловко, как настоящий врач. Мама стоит в стороне, восхищенная, растерянная, взволнованная стонами отца. Она даже забывает о добрых пожеланиях «нашей невестке».
Затем начинается препирательство. Тайбл просит маму зайти в зал: Моисей хочет ее видеть, но не может оставить Исаака. Услышав, кто в гостях у Моисея, мама категорически отказывается идти в зал. Она заметила, что аптекарь всегда кривится, когда видит ее, показывая, как ему неприятны бедные родственники. Кроме того, мама не знает, как разговаривать с моим братом. Хотя она и воспитывала детей мужа, живущих теперь в Америке, но Моисей, самый старший, учился тогда за границей, поэтому ей трудно говорить ему «ты», а он всегда спрашивает ее с улыбкой: «Почему вы мне выкаете?»
Препирательства с Тайбл продолжаются долго, до тех пор, пока отец не велит маме идти если не в зал, то в столовую. Папа хочет, чтобы мы с мамой поели.
Вечером мы возвращаемся, и я несу сверток с едой, который насильно всучила мне Тайбл. Мама, сидевшая в столовой как посторонняя бедная женщина, только на улице справляется со своей растерянностью и дает волю словам:
— Сказать по правде, моя родная сестра, чтоб ей легко икалось, не сделала для меня и половины того, что сделала Тайбл. Тайбл немножко наказана Богом. Ей, бедняжке, нелегко дается речь. Представляю, как она плакала из-за этого, будучи девушкой. Но именно поэтому она понимает ближнего и сопереживает ему. За большие заслуги Тайбл перед Всевышним Он наградил ее таким мужем, как Моисей, и благословил ребенком, Арончиком. Сказать по правде, Арончик еще больший шалун, чем ты. С каким нахальством он всем отвечает! Но ты на него не смотри, твой путь должен быть другим.
Однажды в среду мама вбежала в дом, схватила меня за руку и сквозь рыдания крикнула:
— Идем к отцу, быстро!
Улицы, которые в субботу, когда я шел к отцу, казались пустынными, широкими и красивыми, теперь, посреди недели, кишели людьми, были полны телег и шума. Мама спотыкалась. Она все время бормотала:
— Владыка мира, как он это выдержит? Как он это перенесет? Ты забрал у него опору на старости лет… Хаимка, тебе теперь придется заменить отцу еще и твоего старшего брата. Моисей умер… Он уезжал в Берлин такой бодрый. Он успокаивал Тайбл и отца: маленькая операция, говорил он, вода в боку… И вот он умер под ножом хирурга.
Всю дорогу мама заламывала руки и рвалась вперед. Я бежал за ней, задыхаясь, и боялся той минуты, когда мы войдем в дом Моисея.
Мы нашли квартиру пустой. В темных комнатах царила мертвая тишина. Шторы на окнах были опущены, скатерти со столов сняты, зеркала завешаны белыми простынями. Мы вбежали к отцу в комнату. Он сидел на кровати. Перебинтованные ноги — на полу. Он причитал:
— «Упал венец с нашей головы. Горе нам, ибо мы согрешили»[47].
Мама подтолкнула меня к отцу, будто пытаясь утешить его тем, что я жив. Он взял мою руку, словно слепой палку. Его белая, как молоко, борода подрагивала, и он все твердил, переводя со святого языка на простой еврейский:
— Веля, упал венец с нашей головы. Горе нам, ибо мы согрешили.
Выяснилось, что брат Тайбл, аптекарь, пришел и забрал свою сестру с Арончиком к себе. Мы с мамой оставались в покинутых комнатах, пока не кончились семь дней траура. Потом появился аптекарь и объявил о своем плане: Тайбл будет сдавать эти комнаты студентам. Она будет готовить для соседей и таким образом зарабатывать себе на жизнь. Он, со своей стороны, тоже поможет сестре, но на то, чтобы содержать бывшего тестя, ее средств не хватит.
После семи дней траура, когда Тайбл с Арончиком вернулись домой, мы с мамой усадили отца в тележку и он поехал назад, в нашу квартиру.
По дороге мама открыла отцу тайну, которую все время от него скрывала. Хозяин сдал нам квартиру при условии, что отец будет привратником и будет дежурить по ночам, сторожить магазины. С тех пор, как отец заболел, это делала мама. Но лавочники не хотят, чтобы сторожем была женщина, кроме того, поскольку за квартиру мы не платим, хозяин сдал ее часть кузнецу. Кузнец занимает переднюю комнату. Нам остались внутренняя комнатка и кухня.