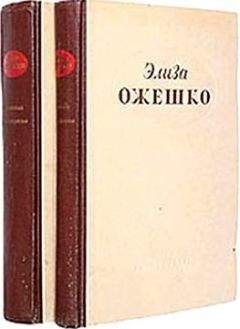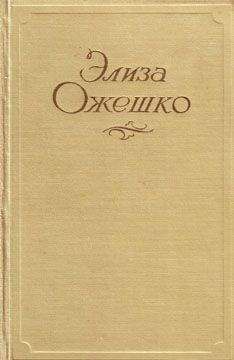— Приказывала…
— Так отчего же не пошла? Нужно было итти! Работала бы в собственной избе, одевалась бы в ситцы и каждый день ела бы яичницу с салом…
На этот раз девушка быстро переступила с ноги на ногу и сердито ответила:
— Пусть Степанову яичницу свиньи едят…
— А теперь девушки смеются над тобой, поют, что ты уж старая девушка!..
Она пожала плечами.
— Пусть себе поют.
Глаза Ковальчука заискрились, и руки слегка задрожали.
— Что же ты так говоришь со мной, точно и не говоришь… как с собакой какой-нибудь?.. Бросит слово и опять молчит, в глаза даже не взглянет… Что я тебе худого сделал?
Тут Петруся выпустила из рук серп и, хватаясь руками за голову, застонала:
— Ой, сделал ты мне, сделал беду на всю жизнь!.. И посмешище из меня сделал для людей… Уж две недели как вернулся, а обо мне и не вспомнил, не пришел даже доброе слово сказать, не взглянул в ту сторону, где я…
Из глаз у нее готовы были брызнуть слезы; она нагнулась за серпом и, делая такое движение, как будто собиралась уйти, воскликнула полуплача, полугневно:
— Не хочешь ты меня, и я тебя не хочу… Иди, венчайся с Лабудовой дочкой… Она самая богатая во всем селе, и глаза у ней такие, что один глядит вправо, а другой влево… Иди с богом от меня к Лабудовой дочке!
Вот эти-то глаза, которые у Лабудовой дочки были косые и противные, у Петруси обладали такими чарами, каких никакая ведьма не могла бы выдумать. Впрочем, в ней не было ничего особенного. Можно было бы найти множество таких же свежих и стройных девушек, как она; но глаза ее были замечательны тем, что прямо-таки говорили и, говоря, притягивали к себе, как золотым шнурком. В них отражалась вся ее душа, о которой уста не умели, да и не смели много сказать. И теперь в ее серых глазах, обращенных на лицо Ковальчука, светились страстный упрек и жалобная мольба, врожденная веселость и долгая тоска. Ковальчук схватил ее за руки и слегка притянул к себе.
— Ты не шла за Степана оттого, что меня ждала? — спросил он быстрым шопотом.
— А то кого ж? — прошептала она.
— А тяжело было жить?
Отирая со щеки слезы пальцем, на котором виднелась красная черта от пореза, она отвечала:
— Тяжело…
— Так ты жила в таком тяжком труде и среди людских насмешек, потому что ждала меня? — спросил он еще раз.
— А кого же?
— Побожись!
Она сложила пальцы как бы для крестного знамения и подняла глаза к сиявшим голубым небесам.
— Клянусь богом и пресвятой богородицей, что я в тебе души не чаяла и так тебя ждала, как птичку, вместе с которой и солнце начинает светить и приходит красная весна.
Он обнял ее за талию и потянул в березовую рощицу.
— Вот и дождалась! Богом клянусь, что я женюсь на тебе и введу хозяйкой к себе в избу. Забыл я немножко о тебе, это правда, но как только я увидел твой тяжкий труд и пот, то сейчас же что-то сжало мне сердце, как клещами, а когда твои глаза взглянули на меня, то на душе у меня стало сладко, как от меда…
Среди зеленых берез, в листве которых шумел ветерок и раздавался непрерывный щебет птиц, он крепко прижимал ее к груди рукой, как бы созданной для молота и наковальни, отирал с ее лица пот и слезы и покрывал поцелуями ее губы, из которых вырывались смех и рыданья.
Долго после этого люди в Сухой Долине болтали, что Петруся, должно быть, и этому тоже что-то «сделала»: где же слыхано, чтобы парень, который ходил в широкий свет, да еще такой парень, которому самые богатые девушки готовы были вешаться на шею, помнил шесть лет о девушке, чтобы он женился на ней, не очень молодой, совсем бедной девушке… Она «сделала» Степану, и этому тоже «сделала», только того потом отворожила, а этого уж забрала себе. Какое-то такое зелье знает, что ли?.. А может быть, и еще что-нибудь похуже…
Действительно, Петруся знала множество таких средств, которые могут помочь в разных превратностях жизни; в успешности этих средств она сама не сомневалась и при помощи их оказывала не раз услуги другим. Это одновременно испытали на себе, хотя и в разной форме, Петр Дзюрдзя и Яков Шишка. Первый из них был одним из самых богатых хозяев Сухой Долины. Земля ли ему досталась в надел лучшая, чем другим, или он был трезвей и трудолюбивей других, — какая бы ни была тому причина, но во всяком случае дед его, отец, и он сам считались в деревне богачами. Вскоре после освобождения крестьян Петр выстроил избу с трубой, двумя хорошими окнами, небольшим крылечком и выбеленными изнутри стенами. Внутри на первый взгляд нельзя было заметить ничего особенного. Сени, большая горница и обширная клеть; в горнице — огромная печь для варки и для печения хлеба, скамьи, столы, ткацкий станок, домашняя утварь из дерева — ничего больше: все такое же, как и у других. Но нужно было заглянуть в клеть, хлев, конюшню, амбары! Там уж было что-то необыкновенное. Хлеба хватало и в самый большой неурожай, так как из года в год всегда оставался кое-какой запас, и избыток одних лет покрывал недород других. Четыре коровы, две лошади, из которых одна, кобыла, приносила каждый год жеребенка, шесть овец, свиньи, куры, голуби, гнездившиеся на крыше, в саду густая рощица вишневых деревьев, перемешанных с дикими грушами, плоды которых доставляли на зиму отличные «гнилки», — всего там было полно. В клети на полках громоздились мешки и горшки со всяким добром; одна стена вся чернела от мотков ниток; стоявшие около стены сундуки были полны до самых краев мужской и женской одежды, еще непочатых штук серого холста и крепкой домотканной материи, вытканной на домашнем станке и окрашенной в синие и красные полосы. Впрочем, избу Петра наполнял не один только незаурядный достаток, но и необыкновенный покой. Петр был человеком флегматического характера, с медленными движениями, обстоятельной речью. Жена его была женщина высокая, красивая и ласковая. Еще в молодости она заболела ревматизмом и какой-то другой болезнью, сделавшей ее медлительной в движениях и менее других женщин склонной к ссорам. Она часто стонала, протяжно и долго жаловалась на свои страдания и спрашивала у кого только могла совета. Когда ее начинала мучить жестокая боль, то она плакала где-нибудь в углу или громко вопила на всю избу, но никогда не ссорилась с мужем. Да и где уж ей было ссориться, ей — со слабыми ногами, с искривленными пальцами на руках, несчастной, которая, словно какая-нибудь барыня, нуждалась в чужой помощи! Для нее было уже большим счастьем, что муж не выгонял ее из избы, не ругал за бессилье, а даже иногда жалел, — участливо покачивая над ней головой и по-человечески разговаривая с нею. Она была достаточно рассудительна, чтобы оценить это счастье и уважать каждое желание мужа, как волю божью. Рассуждения ее с этой точки зрения были просты. В минуты излияний она говорила соседкам:
— Зачем он женился на мне? Женился он не ради приданого, — у меня ведь его не было, — но для того, чтобы иметь в избе хорошую хозяйку. Какая же из меня хозяйка? К работе я рвусь, как лошадь к колодцу, что смогу — то сделаю, но мало ведь я могу. Как схватит меня хворь, так руки от всего и отваливаются. А он мне за это никогда ничего… хоть бы одно слово сказал худое! Терпит и молчит. Еще иногда спросит: «Может быть, тебе, Агата, чего-нибудь надо? Может, опять повезти тебя к знахарю?» Добрый человек! Уж я ему ни в чем не противоречу. Пусть ему господь бог пресвятой за все это сторицею воздаст…
Впрочем, противоречить Петру было делом нелегким. Бывали и у него приступы гнева, — редкие, но страшные. Можно было сказать, что в этой тихой и степенной натуре буря разыгрывалась тем стремительней, чем медленней и дольше она собиралась. Некогда, смолоду, он был покорным сыном и заботился о родителях, когда пришли их преклонные годы. Однако у его матери от старости завелись некоторые причуды: она постоянно надоедала ему ссорами с невесткой. Однажды она заперла от нее клеть, так что он, вернувшись с поля, увидел, что обеда нет, и остался голодным. Тогда Петр ударил старуху так сильно, что она занемогла, пролежала некоторое время на печи и умерла. Может быть, она умерла и не от сыновнего удара, потому что и прежде у нее уж почти не было сил; но Петр до того огорчился этим, что долго ходил как помешанный. Он говорил тогда жене и куму, которого очень любил, что так боится себя самого, как будто бы уже продал дьяволу свою душу. С этого времени он стал очень набожен. Он ездил в церковь и исповедывался чаще других; идя за плугом, он читал молитвы, а в каждый торжественный праздник жертвовал в церковь большой каравай хлеба и толстый сверток полотна. Мысль, будто обида, нанесенная им матери, отдала его душу во власть дьявола, наполняла его ужасом и желанием очиститься перед богом. Со временем это пробудило в нем некоторую склонность к мистицизму; ей не позволял развиваться беспрерывный и тяжелый физический труд, но она проглядывала в том слегка мечтательном выражении, с каким, его серые глаза глядели по временам из-под густых бровей, и в проявлении особенного любопытства по отношению к чудесам, чарам и всяким рассказам о сверхъестественном.