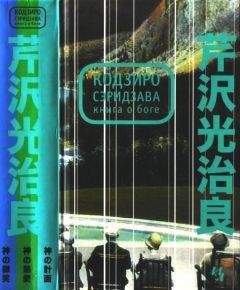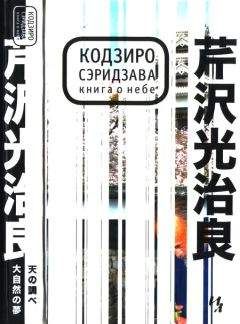Провожать человека в вечность — дело обременительное и сложное, но вот все обряды остались позади, жизнь вернулась в обычную колею, и только тогда я осознал, что наполовину умер.
Это было даже не постоянное ощущение пустоты, знакомое всякому, потерявшему человека, с которым прожито бок о бок шестьдесят лет, а нечто большее — мне казалось, будто от меня действительно осталась только половина, и в физическом и в духовном смыслах, мой запас жизненной энергии был полностью исчерпан. Целыми днями я пребывал в рассеянной задумчивости и даже перестал ходить гулять, хотя это было моей многолетней привычкой. Как ни старались дочери затащить меня на концерт или на выставку, я неизменно отказывался, и это при моей-то любви к музыке и живописи! Ну, а о писательской работе и говорить нечего. В таком состоянии я пребывал около трех лет. Придя же в себя, обнаружил, что к общей расслабленности добавились еще и боли в пояснице, мне стало трудно ходить. Обратился к врачу, но он не смог ничем помочь.
Мои близкие наперебой давали мне советы. Каждый спешил рассказать о том, как сам вылечился от радикулита: одному помогли рекомендации тренера по дзюдо, другому — китайское иглоукалывание, третьему — прижигания моксой, четвертому — костоправ. Все настоятельно требовали, чтобы я немедленно следовал их указаниям. Я испробовал на себе все методы, отчасти потому, что был благодарен им за заботу, отчасти потому, что, как всякий позитивист, любил экспериментировать. Эффект был налицо — с каждым днем мне становилось лучше, и когда я выполнил все рекомендации, у меня уже ничего не болело, однако о полном выздоровлении говорить не приходилось, во всяком случае ходить мне было по-прежнему трудно.
Тут я вспомнил, что мне уже восемьдесят девять — возраст немалый, и устыдился: разве можно столь малодушно пренебрегать временем, дарованным на подготовку к смерти?
И решил не откладывая начать эту подготовку с приведения в порядок своих рукописей. Пока я перечитывал рассказы, мне удалось обрести душевный покой, когда же обратился к романам, ко мне, похоже, вернулись и физические силы. Я окреп настолько, что, отправляясь летом на дачу, прихватил с собой даже ту недописанную рукопись в двести страниц.
А причина, наверное, вот в чем: во-первых, перечитывая свои старые произведения, я понял — многие достойны того, чтобы жить после моей смерти, и мне как писателю это доставило большую радость; во-вторых, прочитанное заставило меня вспомнить, как в течение пятидесяти с лишним лет я целыми днями сидел за письменным столом, постоянно подхлестывая себя мыслью о том, что творить — значит жить.
И вот, как только в этом году на даче я закончил перечитывать и править «Человеческую судьбу», я ощутил прилив бодрости, меня охватил писательский зуд, поэтому я достал привезенную с собой рукопись и, решив продолжить работу над ней, начал читать свои беседы с дряхлой старой дзельквой.
Написаны они были неплохо, вот только найдет ли отклик в сердцах молодых читателей история жизни одинокой дзельквы, которая, чудом выжив, стала свидетельницей многих исторических событий? Вряд ли стоит писать о переменах, происшедших за последнее столетие в районе Восточное Накано — Отиаи, и уж вовсе нелепо тратить оставшееся мне драгоценное время на описание всяких пустяковых историй, свидетельницей которых была старая дзельква, при том, что все они, конечно же, весьма трогательны.
В результате долгих раздумий я, воодушевленный словами о том, что именно в этом — дух моей литературы, решил все-таки написать о неизреченной воле Бога, и даже насмешки Дзиро Мори не заставили меня отказаться от этой идеи.
Однажды, когда, проходя сеанс полного погружения в природу, я лежал в шезлонге под деревьями в саду нашей дачи, мне послышался какой-то странный голос. Я очень удивился и не на шутку задумался, в результате мной овладело непреодолимое желание проверить экспериментальным путем, действительно ли я слышал этот голос, или он мне просто почудился.
На следующий день я поставил шезлонг на то же самое место и, улегшись, сосредоточился на погружении в природу. Время было то же, что и накануне, да и погода почти такая же: день выдался ясный, над головой простиралось яркое чистое небо. Вокруг не было ни души, тишина стояла удивительная. Вот только мне никак не удавалось добиться состояния полной отрешенности, возможно, потому, что душа моя чего-то напряженно ждала. Изо всех сил стараясь полностью раствориться в природе, достичь предельного душевного умиротворения, я едва не заснул, но тут мне почудилось, что кто-то дважды назвал мое имя, и меня словно пронзило электрическим током.
— Ты почему до сих пор не начал писать о Боге? Бог — тут ты мыслил совершенно верно — Творец Вселенной, Создатель человека и прочих живых тварей на земле. Другого Бога нет. Существует только этот один-единственный Бог. Ты пытался некогда изучать вопрос о взаимоотношениях между этим Богом и Иисусом. Но бросил свои изыскания, так и не сумев прийти к какому-то определенному выводу. Запомни: Бог снизошел с Небес на Иисуса Христа и заставил его выполнить свое земное предназначение. И когда-нибудь эта истина предстанет перед тобой во всей своей очевидности.
Тут голос оборвался, может быть, потому, что я невольно привстал. Я посмотрел вокруг, пытаясь понять, кто произнес эти слова, но никого не увидел. Откуда донесся до меня этот голос — с неба ли, из глубин моего естества? Или он только почудился? Этого я не мог понять.
Действительно ли метод природного лечения сопоставим с техникой медитации дзадзен, как когда-то в Отвиле говорил мне профессор Д.? Известно, что многие знаменитые монахи при помощи дзадзен достигали состояния просветления — сатори, само же сатори обычно определяется как постижение, принятие всем существом человека сокровенного смысла учения дзен. Возможно, для того, чтобы постичь, человек должен сначала услышать нечто, звучащее где-то в глубине его души, причем это «нечто» облечено в словесную форму? То есть услышанное мною не галлюцинация, а что-то вроде сатори, я действительно слышал эти слова внутренним слухом, слухом души…
Тем не менее результат опыта нуждался в подтверждении. И на следующий день я решил повторить его. На этот раз я услышал голос гораздо быстрее, не прошло и полутора часов после того, как я вышел в сад.
— Ты еще и не начал писать? Бог снизошел с Небес не только на Христа. Еще раньше он снисходил на Шакьямуни. И учение Христа, и учение Шакьямуни — это учение единого великого Бога. Сейчас ты, конечно, поймав меня на слове, с важным видом возразишь, что учение Шакьямуни, или буддизм, — это религия, возникшая в результате просветления Шакьямуни, и в ней отсутствует идея Бога. Что касается Иисуса Христа, то тут ты многое уразумел, хотя полного понимания у тебя нет. А во всем, связанном с Шакьямуни, ты полный профан. Но пока это и не важно. Начинай писать, а я по ходу дела стану тебе подробно рассказывать и о том и о другом. Начни с того момента, как ты поверил в Бога. Ты должен поторопиться. Человеку неведомо, когда придет его последний срок. Тебе надо спешить. Понятно?
Тут уж ничего не оставалось, как покориться.
Я больше не мог ссылаться на необходимость новых экспериментов. Надо было продолжать работу над начатой рукописью, другого выхода у меня не было. Даже насмешки Дзиро Мори не могли этому помешать. Я решил последовать совету и начать с рассказа о том, как я поверил в Бога.
А поверил я в Бога еще до того, как закончил начальную школу.
Всем известно, что в трехлетнем возрасте я был брошен родителями: мой отец, будучи адептом учения Тэнри, передал все свое имущество Богу и, отказавшись от вполне благополучного положения в обществе, которое имел, будучи богатым рыбопромышленником, покинул родные края ради того, чтобы стать нищим проповедником. Религиозные воззрения моего отца привели к тому, что мои дед с бабкой и дядья пополнили ряды деревенской бедноты, все богатые родственники тут же порвали с ними, испугавшись, как бы к ним самим не прилипла эта зараза — учение Тэнри. Мои несчастные дед и бабка, на старости лет лишившиеся всего — и положения в обществе, и богатства, к тому же еще и меня навязали им на шею, совсем растерялись и в конце концов, чтобы хоть как-то выжить, решили вместе с малолетним иждивенцем просить приюта в семье своего третьего сына. Дядя по вине моего отца тоже стал одним из беднейших в деревне рыбаков, поэтому принять в свой дом еще троих наверняка было для него непосильным бременем, но ничего другого ему не оставалось. Рядом жили еще двое моих дядьев, но они не приняли нас. И дед с бабкой и дядья должны были ненавидеть отца, потому что именно он довел их до столь жалкого, поистине нищенского существования, но поскольку он был далеко, их ненависть к нему постепенно притупилась и забылась, зато я всегда был под боком, словно бельмо на глазу, и они стали ненавидеть меня. Обычно такой добрый дядя вдруг ни с того ни с сего набрасывался на меня с попреками, начинал кричать, что, мол, если ты чем-то недоволен, вини своего папашу, наше плачевное состояние — дело его рук. Я в таких случаях сразу терялся и плохо соображал. Его семейство тоже относилось ко мне довольно неприязненно, и это больно ранило мое детское сердце, так что очень часто мне хотелось умереть. Я знал, что легко могу умереть, бросившись с обрыва в реку Каногаву, и только своей бабушке я обязан тем, что в конце концов так и не осуществил этого.