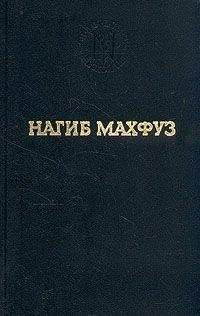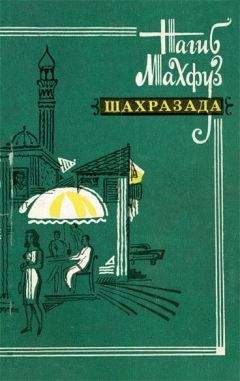— Если бы я могла переложить на свои плечи хоть частицу твоей усталости.
— Молчи, несчастье мое! — крикнул Адхам в сердцах, словно она сказала последнюю глупость.
Умейма поспешила забиться в дальний угол, но супруг ее уже не мог остановиться.
— Всю жизнь ты будешь мне напоминанием о моей глупости! — кричал он. — Будь проклят тот день, когда я тебя увидел.
Из темноты донеслось рыдание, но оно лишь распалило Адхама.
— Плачь, плачь. Может быть, со слезами из тебя выйдет часть подлости, составляющей основу твоего существа.
Он услышал плачущий голос:
— Все слова — ничто по сравнению с моей мукой.
— Скройся с глаз. Я не желаю терпеть твое присутствие. Он свернул в комок снятую с себя галабею и швырнул в нее.
— Мой живот! — охнула Умейма.
И тут же гнев Адхама остыл. Он испугался за жену. По его молчанию Умейма поняла, что худшее позади, и страдающим голосом проговорила:
— Как хочешь, я могу уйти совсем.
Поднялась и заковыляла прочь от хижины. Наконец Адхам не выдержал, крикнул:
— Хватит капризничать. Вернись!
Вглядываясь в ночную тьму, он увидел, как тень ее повернула обратно. Тогда он откинулся назад, оперся спиной о стену и устремил взор в небо. Его очень тревожило, не причинил ли он вреда Умейме, но гордость не позволяла спросить, как ее живот. Вместо этого он сказал:
— Помой огурцов на ужин.
Вечерний отдых и здесь не лишен приятности. Правда, тут нет ни растений, ни воды и птицы не поют в ветвях, но сухая, бесплодная почва пустыни ночью странно меняет свой облик, дает богатую пищу воображению мечтателя. Над ним — купол небес, усеянный звездами. В хижине — женщина. Его одиночество полно значения. Печаль — как угли, присыпанные золой. Высокая стена дома дразнит тоскующее сердце. Этот всесильный отец, как заставить его услышать мой стон? Разум советует забыть прошлое. Но как забыть?! Ведь прошлое у нас одно. Поэтому я возненавидел свою слабость и проклял свое бессилие. Я примирился со страданием, оно стало моим постоянным спутником. Птица, которой никто не запрещает жить в саду, счастливее меня. Глаза мои истосковались по виду чистых струй, текущих между розовых кустов. Где аромат хенны и запах жасмина, где? Где душевный покой и звук свирели? О жестокий, полгода прошло. Когда же растопится лед твоей суровости? Издалека донесся противный голос Идриса, поющего: ««Чудеса, о Господи, чудеса». А вон и он сам разжигает огонь перед своей лачугой. В свете вспыхнувшего пламени видна жена Идриса с торчащим вперед животом. Она ходит туда-сюда, подавая мужу то еду, то питье. Идрис пьян, как всегда. В ночной темноте он обращает свою речь к большому дому:
— Настал час мулухийи[6] и жареных кур, полейте их ядом, о жители дома!
И снова принимается петь.
Адхам огорченно вздохнул. «Всякий раз, как я сижу один в сумерках, является этот шайтан Идрис, разжигает свой oгонь, кривляется и нарушает мое одиночество». В это время в дверях хижины показалась Умейма, и Адхам понял, что она все еще не ложилась спать. Беременность, бедность и тяжелая работа вконец замучили бедняжку. Кротким голосом Умейма спросила:
— Ты еще не ложишься?
— Дай хоть часок посидеть спокойно, раздраженно ответил Адхам. Тебе завтра рано вставать, ты так нуждаешься в oтдыхе…
— В одиночестве я вновь становлюсь, или почти становлюсь, господином — смотрю на небо и вспоминаю былые дни.
— Ах, если бы мне удалось встретить твоего отца, когда он выходит из дома или возвращается туда. Я бросилась бы к его ногам и умоляла бы о прощении.
— Сколько раз я тебе говорил, брось эти мысли. Таким путем мы не вернем его благосклонность.
Помолчав немного, Умейма тихо прошептала:
— Я думаю о судьбе того, кто у меня под сердцем.
— И я думаю о нем, хотя сам превратился в грязное животное.
— Ты лучший из людей!
— Я уже не человек, — грустно усмехнулся Адхам. — Как животное, я забочусь лишь о пропитании.
— Не печалься. Очень многие люди начинали как ты, а потом добивались благополучия, становились владельцами лавок и домов.
— Бьюсь об заклад, что беременность повлияла на твой рассудок!
Но Умейма не унималась:
— Ты станешь важным человеком, и ребенок наш вырастет в довольстве.
Адхам развел руками — женщине не докажешь — и спросил с насмешкой:
— Как же я этого достигну, с помощью бузы или гашиша?
— Трудом, Адхам.
С негодованием он возразил:
— Труд ради куска хлеба — проклятие из проклятий. В саду я жил по— настоящему, у меня не было других дел, кроме как играть на свирели да любоваться небом. А сегодня я всего лишь животное. С утра до вечера я толкаю перед собой тележку ради несчастной лепешки, которую я сжую вечером, чтобы к утру в теле моем было достаточно сил. Работа ради хлеба — худшее из проклятий. Истинная жизнь — в Большом доме, там, где не нужно работать ради пропитания, где царят радость, красота и довольство.
Внезапно раздался голос Идриса:
— Ты прав, Адхам, труд — это проклятие, унижение, к которому мы не привыкли. Разве я не предлагал тебе стать на мою сторону?
Обернувшись на звук голоса, Адхам увидел совсем близко от себя очертания Идрисовой фигуры. Негодяй подкрался незаметно в темноте и подслушал весь разговор, а теперь, видите ли, даже принял в нем участие. Адхам очень рассердился.
— Возвращайся в свою хижину, — сказал он Идрису. Но тот с притворной серьезностью продолжал:
— Я согласен с тобой в том, что труд — проклятие, несовместимое с достоинством человека.
— Но ты призываешь меня жить мошенничеством, а это худшее проклятие, это грязь.
— Если труд — проклятие, а мошенничество — грязь, то как же быть?
Адхам не пожелал отвечать и умолк. Не дождавшись ответа, Идрис заговорил сам:
— Может быть, ты хочешь есть свой хлеб, не трудясь? Но это неизбежно означает жить за счет других!
Адхам упорно молчал.
— Или ты хочешь, — продолжал допытываться Идрис, — жить в праздности, иметь кусок хлеба и чтобы при этом никто не страдал? — И отвратительно ухмыльнувшись, заключил: — В этом-то вся загадка, сын рабыни. Тут на него напустилась Умейма:
— Возвращайся в свою хижину и загадывай загадки шайтану.
Жена Идриса Наргис громко позвала мужа, и он пошел к себе, напевая: «Чудеса, о Господи, чудеса…» Умейма умоляюще обратилась к мужу:
— Не связывайся с ним, прошу тебя.
— Он свалился неожиданно мне на голову, и я не заметил, откуда он взялся.
Некоторое время оба молчали, находя в молчании успокоение своим взволнованным чувствам. Потом Умейма тихо заговорила:
— Сердце вещает мне, что из хижины нашей я сделаю дом, подобный тому, откуда мы изгнаны. В нем будет все — и сад, и соловьи. Наш сын обретет в нем и покой, и радость.
Адхам поднялся с земли. На лице его блуждала невидимая в темноте улыбка. Отряхивая песок с галабеи, он вдруг сказал, передразнивая самого себя:
«Вот огурцы! Свежие, сладкие, слаще сахара!» А пот течет по моей спине, а мальчишки забавляются, потешаясь надо мной. Каждый день я сбиваю ноги в кровь ради нескольких жалких миллимов…
Он вошел в хижину, Умейма последовала за ним, говоря:
— Ничего, придет и к нам день радости и отдохновения.
— Если бы ты надрывалась, как я, у тебя не осталось бы времени мечтать.
И каждый из них улегся на свой набитый соломой тюфяк. Умейма тихонько воскликнула:
— Неужели Господь не может превратить нашу хижину в дом, подобный тому, откуда мы изгнаны?! Адхам, зевая, отозвался:
— У меня одна надежда — вернуться когда-нибудь в Большой дом.
Он зевнул еще громче и заключил:
— А труд — проклятие! Жена шепотом возразила:
— Может быть, от этого проклятия есть лишь одно спасение — труд.
Однажды ночью Адхама разбудили тяжелые вздохи. Еще не проснувшись окончательно, различил он страдальческие всхлипывания Умеймы: «Ох, спина! Ох, живот!» Он сел на постели, стараясь разглядеть в темноте жену, потом сказал:
— Последние дни у тебя все время так: схватит, а потом отпускает. Зажги-ка свечку.
— Зажги сам, — ответила она со стоном, — на этот раз не отпустит.
Он встал, нащупывая свечу среди кухонной утвари. Зажег ее, укрепил на таблийе[7] и увидел, что Умейма сидит на своей подстилке, опершись на руки, и стонет. Голова ее была запрокинута, и дышала она с трудом. Встревоженный, он сказал:
— Тебе каждый раз так кажется, когда ты чувствуешь боль.
— Нет, — ответила она, сморщив лицо, — я уверена, что на этот раз серьезно.
Он помог ей пододвинуться поближе к стене, чтобы опереться о нее спиной, и сказал:
— Похоже, срок твой наступил. Потерпи, пока я схожу в Гамалийю, приведу повитуху.