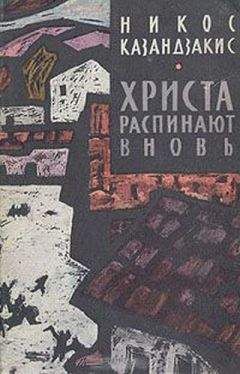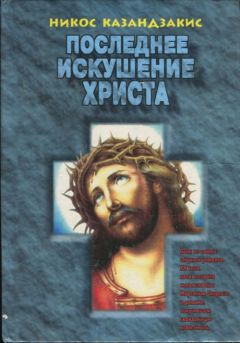И снова послышался визгливый голос старика Ладаса:
— Смерть! Смерть!
В эту минуту раздался сильный стук; все замолчали и повернулись к двери. Теперь с улицы слышались голоса:
— Откройте! Откройте!
— Это голос попа Фотиса! — крикнул кто-то.
— Это голос Яннакоса, — сказал другой. — Идут саракинцы, чтобы отнять его у нас!
Дверь затрещала, зашаталась, с улицы все сильнее доносился грозный гул, крики мужчин и женщин.
— Откройте, убийцы! Побойтесь бога! — ясно слышался теперь голос попа Фотиса.
Поп Григорис поднял руки.
— Во имя господа бога, — крикнул он. — Я беру грех на себя!
Панайотарос вынул нож и обернулся к попу Григорису.
— С твоего благословения, отче! — сказал он.
— Благословляю тебя, Панайотарос!
Но толпа уже кинулась на Манольоса. Пролилась кровь, забрызгала чьи-то лица, несколько горячих, соленых капель попали на губы попа Григориса.
— Братья… — послышался тихий голос умирающего Манольоса.
Но он не успел закончить, упал на каменные плиты церкви, забился в агонии, раскинул руки, как распятый Христос. Из множества ножевых ран струилась кровь.
Толпа почуяла запах крови и кинулась на еще трепетавшее тело. Дед Ладас беззубым ртом припал к шее Манольоса и как одержимый силился вырвать кусок тела.
Панайотарос вытер нож о свои стриженые рыжие волосы, вымазал кровью свое лицо, изрытое оспой, и крикнул:
— Ты погубил меня, Манольос, я отомстил, — мы в расчете! До скорой встречи!
Поп Григорис наклонился, собрал в ладонь кровь убитого и обрызгал ею толпу.
— Его кровь на всех нас! — крикнул он.
Народ с ужасом принял на себя эту кровь.
— Откройте! Откройте, убийцы! — послышались снова голоса с улицы.
Поп Григорис сделал знак пономарю — тот подошел к нему, пошатываясь.
— Открой дверь, — приказал он, — и скорей возвращайся, чтобы смыть кровь с плит. Не забывай, что сегодня в полночь рождество Христа.
Он обратился к своей пастве.
— Пошли, братья христиане, — сказал он. — Мы выполнили свой долг. С нами бог! Теперь пусть приходит поп Фотис, пусть хоронит его.
Пономарь открыл дверь, и в темноте показались беспокойные, грозные лица мужчин и женщин.
— Где Манольос? — послышался задыхающийся голос Яннакоса.
— В церкви он. Идите возьмите его! — ответил поп Григорис. — Дайте нам дорогу!
— Если вы его убили, — закричал поп Фотис, — его кровь падет на ваши головы и на головы ваших детей.
— В церкви он, — повторил поп Григорис, — идите уберите его!
— Его убили, — заревел Яннакос и бросился в церковь.
За ним ворвались поп Фотис, Костандис, парикмахер Андонис, толстый мясник Димитрос и несколько саракинских женщин.
Когда Яннакос бежал к алтарю, он споткнулся посреди церкви и упал на труп Манольоса. Послышался его душераздирающий крик:
— Манольос!
Яннакос, весь в крови, рыдая, обнимал, целовал, ласкал своего убитого друга.
К полночи радостно зазвонил колокол, зовущий христиан в церковь, чтоб увидеть рождающегося Христа. Зажглись фонари, осветились дома. Одна за другой распахивались двери, христиане отправлялись в церковь, дрожа от холода. Ночь была тихая, темная, холодная. Только в доме Патриархеаса двери были закрыты, и прохожие слышали доносившийся оттуда гул мужских голосов, а время от времени — пронзительный женский плач.
Манольос лежал на широкой кровати старика Патриархеаса, завернутый, как новорожденный, в белые шелковые простыни из приданого матери Михелиса. Вокруг него товарищи, бледные и молчаливые, коротали ночь. Яннакос прижался головой к ногам Манольоса и плакал — тихо, бесшумно, жалобно, словно ребенок. Он устал кричать, бить себя в грудь и теперь, прижавшись лицом к ногам друга, только плакал. Костандис побежал на Саракину за Михелисом. Несколько женщин лежали в углу, отвернувшись к стене, и плакали.
Отец Фотис, наклонившись, рассматривал при свете фонаря лицо Манольоса. Оно было спокойное, очень бледное, с большой ножевой раной от виска до подбородка. Время от времени отец Фотис протягивал руку и поправлял ему волосы, на которых запеклась кровь, а потом снова склонял свою голову и погружался в размышления. Старуха Марфа совсем недавно известила его, что ага испугался и послал в Большое Село тайного гонца с просьбой прислать в Ликовриси пехоту и конницу, так как большевики вошли в село и хотят его убить.
«Они придут с винтовками, пушками, лошадьми, — думал он. — Разве можем мы сопротивляться? Нас всех уничтожат… Мы должны сейчас уйти. Нужно уйти как можно быстрее… До каких пор, боже мой, до каких пор?»
Он протянул руку и ласково, медленно провел ею по лицу Манольоса.
— Напрасно, напрасно ты отдал свою жизнь, Манольос, — прошептал он. — Тебя убили, ты взял на себя все наши грехи, ты говорил: «Я воровал, я поджигал, я убивал!» — чтобы нас оставили в покое и мы могли бы закрепиться на этой земле. Напрасно… Напрасно!
Отец Фотис слышал праздничный звон колокола, возвещавшего о том, что родился Христос и спустился на землю спасти людей. Он покачал головой, вздохнул и прошептал:
— Напрасно, напрасно, Христос… Вот уже скоро две тысячи лет, а тебя все еще распинают. И еще… Когда же ты родишься, Христос, чтоб тебя больше не распинали, чтобы ты жил с нами вечно?
Под утро отец Фотис прислонился головой к железной спинке кровати, на которой лежал Манольос, и на минуту задремал. Ему снилось, будто он гонялся вокруг зеленого раскидистого дерева за крохотной желтой птичкой, вроде канарейки. Он начал гоняться за ней, когда был еще маленьким ребенком. Проходили годы; он рос, стал юношей, потом мужчиной, у него выросли борода и усы, сначала черные как смоль, потом седые — он старел и все время гонялся за желтой птичкой. Но она ускользала от него, перелетая с ветки на ветку, и все пела, пела…
Прошла только минута, но когда священник открыл глаза, ему показалось, что прошла тысяча лет, что тысячу лет он без устали гонялся за постоянно нарождающейся силой, — за святой неуловимой птичкой, похожей на канарейку. Но в душе отец Фотис понимал, что желтая птичка, которая то смело прыгала вокруг, то щебетала, охваченная страстью, подняв к небу голову, не была канарейкой.
— Чем бы она ни была, я буду гоняться за ней до самой смерти!
Сказав это, отец Фотис вскочил на ноги, собрал всю свою паству — мужчин и женщин — на большом дворе Патриархеаса. Ночью пришли и все остальные — те, что разошлись по садам, виноградникам и оливковым рощам. Двор наполнился людьми.
— Дети мои, — сказал он. — Мужайтесь! Тяжело то, что я вам сейчас скажу, но наши плечи крепки — вынесут и это. Вчера ночью мне сообщили: сюда идет турецкое войско, чтобы выгнать нас, и нам лучше уйти, чтобы не застали никого из нас ни в Ликовриси, ни на Саракине. Нас, греков, мало осталось в мире. Мы — пусть что угодно говорят наши враги, — мы есть соль земли, и нельзя допустить, чтоб мы погибли, братья!
— Не погибнем, отче, не беспокойся! — крикнул Лукас, уже поднявший знамя святого Георгия-всадника. — Вперед, братья, вперед за святым Георгием! И посмотрим, куда нас приведет дорога.
Все бросились разорять богатый дом Патриархеаса. Отец Фотис открыл кладовые и раздавал добро. Все нагрузились продуктами и одеждой, сняли с петель дверь, положили на нее Манольоса. Двое мужчин подняли ее на плечи, старики взяли иконы. Отец Фотис вышел вперед, и быстрым шагом все направились к Саракине.
— Мы пройдем через Саракину, — сказал священник, — похороним нашего Манольоса, разроем могилы, заберем кости наших отцов и снова отправимся в путь. Мужайтесь, дети мои! Будьте стойкими! Мы бессмертны! Двинемся снова в путь!
Они подошли к колодцу святого Василия. Отец Фотис на минуту остановился.
— Дети мои, — сказал он. — Сегодня на землю спустился новорожденный Христос, Давайте возьмем его с собой. У нас есть матери, которые покормят его… С рождеством Христовым, братья!
Яннакос замыкал шествие. Ночью он вывел своего ослика со двора Костандиса, нагрузил его, чем только мог, и теперь молча шел рядом с ним, опустив голову. Время от времени на глаза его набегали слезы и мир заволакивался туманом, но Яннакос вытирал глаза, и все вновь прояснялось в утреннем зимнем свете. Он осторожно и нежно поглаживал круп ослика, а тот шевелил хвостом, поворачивал голову и смотрел на него, ничего не понимая: что случилось с хозяином? Почему он с ним не говорит? Почему он не протягивает руку, чтобы погладить ему живот, шею и теплые уши?
Они ступили на каменистый склон Саракины и начали подниматься на гору. Впереди несли Манольоса; за ним, в молчании, шел народ. День был холодный. На вершине сверкала церковь пророка Ильи, а далеко на горизонте блестели горы — одни казались розовыми, другие — светло-голубыми.