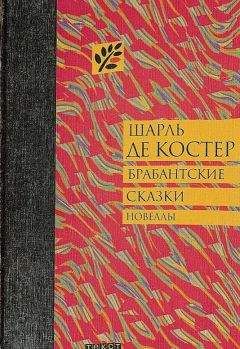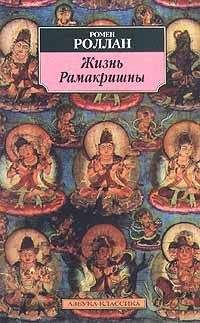— Я опять оказался пророком: небо нахмурилось, ветер бушует, идет теплый дождь, вода поднялась на целый фут.
Вечером он радостно воскликнул:
— Северное море вздулось, начался прилив, громадные волны хлынули в Зёйдер-Зе и ломают лед — лед трескается и осыпает искрящимися осколками корабли! А вот и крупа! Адмирал отдал приказ отойти от Амстердама, а воды столько, что поплыл наш самый большой корабль. Вот мы уже в Энкхёйзенской гавани. Море замерзает снова. Я опять оказался пророком. Господь сотворил чудо.
А Уленшпигель сказал:
— Благословен бог наш — выпьем во славу божью!
И прошла зима, и настало лето.
19
В половине августа, когда куры, наевшись зерен, пребывают глухи к призывам петуха, трубящего им о своей любви, Уленшпигель сказал морякам и солдатам:
— Кровавый герцог осмелился издать в Утрехте благодетельный указ{193}, в котором он среди прочих благостынь и щедрот грозит непокорным жителям Нидерландов голодом, смертью, разором. «Все, кто еще не сдался, будут уничтожены, — вещает он, — его королевское величество заселит ваш край иностранцами». Кусай, герцог, кусай! Зубы гадюки ломаются о напильник. Напильник — это мы. Да здравствует Гёз!
Альба, ты опьянел от крови! Неужели ты думаешь, что мы убоимся твоих угроз или же уверуем в твое милосердие? Твои хваленые полки, о которых ты раззвонил на весь мир, все эти «Непобедимые», «Неустрашимые», «Бессмертные», вот уже семь месяцев обстреливают Гарлем — слабо укрепленный город, который защищают одни местные жители. И при взрывах твои «Бессмертные» так же кувыркаются в воздухе, как и простые смертные. Горожане поливали их смолой. В конце концов твои войска все же покрыли себя неувядаемой славой, перебив безоружных. Ты слышишь, палач? Час божьего гнева пробил.
Гарлем потерял своих храбрых защитников, из его камней сочится кровь. Он потерял и истратил за время осады миллион двести восемьдесят тысяч флоринов. Власть епископа восстановлена. С сияющим лицом он на скорую руку освящает храмы. На этих освящениях присутствует сам дон Фадрике. Епископ моет ему руки, но господь видит, что кровь с них не смывается. Епископ причащает дона Фадрике и тела, и крови — простому народу это не полагается. И звонят колокола безмятежно и приятно для слуха — точно ангелы поют на кладбище. Око за око! Зуб за зуб! Да здравствует Гёз!
20
Во Флиссингене Неле заболела горячкой. Ей пришлось оставить корабль, и она нашла приют у реформата Питерса на Турвен-Ке.
Уленшпигель тужил, и все же ему было теперь за нее спокойнее: в благоприятном исходе болезни он не сомневался, а испанские пули достать ее там не могли.
Он не отходил от нее, как, впрочем, и Ламме, ухаживал за ней и еще крепче, чем прежде, любил. И однажды у него с Ламме произошел такой разговор:
— Ты знаешь новость, верный мой друг? — спросил Уленшпигель.
— Нет, сын мой, — отвечал Ламме.
— Ты видел флибот, который недавно присоединился к нашему флоту? Тебе известно, кто там каждый день играет на виоле?
— Когда стояли холода, я, должно быть, простудился и оглох на оба уха, — сказал Ламме. — Чего ты смеешься, сын мой?
Уленшпигель, однако ж, продолжал:
— Как-то раз там кто-то пел фламандскую lied[65], — голосок, по-моему, приятный.
— Ах! — вздохнул Ламме. — Она тоже играла на виоле и пела.
— А другую новость ты знаешь? — продолжал Уленшпигель.
— Ничего я не знаю, сын мой, — отвечал Ламме.
Уленшпигель сообщил:
— Мы получили приказ подняться по Шельде до Антверпена и захватить либо сжечь вражеские суда. Людям пощады не давать. Что ты на это скажешь, пузан?
— Ох, ох, ох! — вздохнул Ламме. — В этой несчастной стране только и разговору что о сожжениях, повешениях, утоплениях и прочих средствах истребления горемычных людей! Когда же наконец настанет долгожданный мир, когда же наконец никто нам не будет мешать жарить куропаток, цыплят, яичницу с колбасой? Я предпочитаю кровяную колбасу — ливерная слишком жирна.
— Желанная эта пора настанет, когда во фландрских садах на яблонях, сливах и вишнях заместо яблок, слив и вишен на каждой ветке будет висеть испанец, — отвечал Уленшпигель.
— Ах! Мне бы только сыскать мою жену, мою дорогую, милую, любимую, ласковую, ненаглядную, верную жену! — воскликнул Ламме. — Да будет тебе известно, сын мой, что я никогда не был и никогда не буду рогат. Нрав у моей жены был строгий и уравновешенный. Мужского общества она чуждалась. Правда, она любила наряжаться, но это уже чисто женское свойство. Я был ее поваром, стряпухой, судомойкой — я говорю об этом с гордостью — и впредь был бы рад служить ей. Но я был также ее супругом и повелителем.
— Оставим этот разговор, — сказал Уленшпигель. — Ты слышишь команду адмирала: «Выбрать якоря!»? А капитаны повторяют его команду. Стало быть, мы отчаливаем.
— Куда ты? — спросила Уленшпигеля Неле.
— На корабль, — отвечал он.
— Без меня? — спросила она.
— Да, — отвечал Уленшпигель.
— А ты не подумал о том, что я буду очень беспокоиться о тебе? — спросила она.
— Ненаглядная ты моя! — сказал Уленшпигель. — Ведь у меня шкура железная.
— Не говори глупостей, — сказала Неле. — На тебе суконная, а не железная куртка; под ней твое тело, а оно у тебя, так же точно как и у меня, состоит из костей и из мяса. Если тебя ранят, кто за тобой будет ходить? Ты истечешь кровью на поле битвы. Нет, я пойду с тобой!
— Ну, а если копья, мечи, ядра, топоры, молотки меня не тронут, а обрушатся на твое нежное тело, — на кого ты меня, несчастного, тогда покинешь? — спросил Уленшпигель.
Неле, однако ж, стояла на своем:
— Я хочу быть с тобой. Это совсем не опасно. Я спрячусь за деревянным прикрытием вместе с аркебузирами.
— Если ты пойдешь, то я останусь, и милого твоему сердцу Уленшпигеля назовут трусом и предателем. Дай лучше я спою тебе песенку:
Природа — оружейник мой:
В железе грудь и темя — тоже.
Я защищен двойною кожей:
Своей природной и стальной.
Уродка-смерть мне строит рожи,
Но ей не совладать со мной —
Я защищен двойною кожей:
Своей природной и стальной.
Жить — вот девиз мой боевой,
Под солнцем жить — всего дороже!
Я защищен двойною кожей:
Своей природной и стальной.
Так он, с песней на устах, и убежал, не забыв, однако, поцеловать на прощанье дрожащие губки и милые глазки Неле, а Неле, в жару, и смеялась и плакала.
В Антверпене Гёзы захватили все суда Альбы{194}, включая те, что стояли в гавани. В город они ворвались белым днем, освободили пленных, а кое-кого, наоборот, взяли в плен, чтобы получить выкуп. Они угоняли некоторых горожан под страхом смерти и не давали им рта раскрыть.
Уленшпигель сказал Ламме:
— Сын адмирала содержится в заключении у каноника. Надо его освободить.
Войдя в дом каноника, они увидели сына адмирала и жирного, толстопузого монаха — монах, ярясь, уговаривал его вернуться в лоно святой матери-церкви. Молодой человек, однако ж, не пожелал. Он пошел за Уленшпигелем. Ламме между тем схватил монаха за капюшон и потащил по антверпенским улицам.
— С тебя причитается сто флоринов выкупу, — приговаривал он. — Почему ты еле-еле плетешься? А ну, пошевеливайся! Что у тебя, свинец в сандалиях, что ли? Шагай, шагай, мешок с салом, ларь, набитый жратвой, брюхо, налитое супом!
— Да я и так шагаю, господин Гёз, я и так шагаю, — в сердцах отвечал тот. — Однако ж, не во гнев вашей аркебузе будь сказано, вы такой же тучный, пузатый и жирный мужчина, как я.
— Как ты смеешь, поганый монах, — толкнув его, вскричал Ламме, — сравнивать свой дармоедский, бесполезный монастырский жир с моим фламандским жиром, который я накопил честным путем — в трудах, в треволнениях и в боях? А ну, бегом, не то я тебя, как собаку, пинком пришпорю!
Монах, однако ж, в самом деле не в силах был бежать — он совсем запыхался. Запыхался и Ламме. Так, отдуваясь, добрались они до корабля.
21
Гёзы взяли Раммекенс, Гертрёйденберг и Алкмар{195}, а затем вернулись во Флиссинген.
Выздоровевшая Неле вышла встречать Уленшпигеля в гавань.
— Тиль, милый мой Тиль! — увидев его, воскликнула она. — Ты не ранен?
Уленшпигель запел:
Жить — вот девиз мой боевой.
Под солнцем жить — всего дороже!
Я защищен двойною кожей:
Своей природной и стальной.
— Ox! — волоча ногу, кряхтел Ламме. — Вокруг него сыплются пули, гранаты, цепные ядра, а ему это все равно что ветер. Ты, Уленшпигель, как видно, — дух, и ты тоже, Неле: вы вечно молоды, всегда веселы.