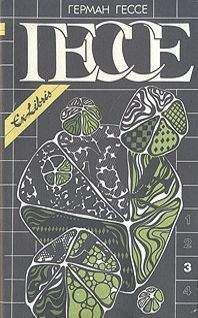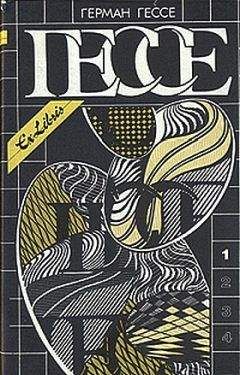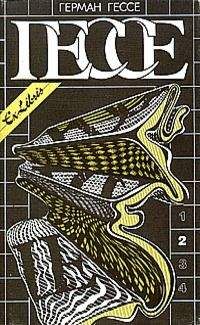«Если случится с тобой, что душа твоя станет больна и позабудет, что надобно ей для жизни, и ты пожелаешь узнать, что надобно твоей душе и что ты должен дать ей, тогда изгони все из своего сердца, пусть оно станет пустым, пусть редким и легким будет твое дыхание; представь себе, что в глубине твоего черепа разверзлась пещера, и устреми мысленный взор в эту пещеру, сосредоточься для созерцания, и тебе откроется образ того, что надобно твоей душе, чтобы жизнь ее не угасла».
— Неплохо, — сказал профессор. — Только вот там, где у вас говорится: «позабудет, что надобно ей», следует дать более точный перевод: «утратит то, что» — и так далее. А вы обратили внимание на слово «пещера»? Ведь именно это слово употребляли жрецы и врачеватели в смысле «материнское чрево». Подумать только, эти пройдохи умудрились состряпать из довольно-таки сухого руководства для исцеления меланхоликов весьма замысловатое колдовское заклинание. Это самое «mar pegil trefu gnoki» как будто бы созвучно с некоторыми заклинаниями Великого змея, и, должно быть, несчастным бенгальцам, которых морочили тогдашние колдуны и шарлатаны, оно внушало величайший ужас. Впрочем, само наставление, все эти советы насчет пустого сердца, редкого дыхания и устремления взгляда в собственное нутро вовсе не являются чем-то новым. Взять хотя бы фрагмент номер восемьдесят три — право, в нем все сформулировано намного яснее. Но вы, Эдмунд, конечно же, и сегодня со мной не согласны. Что вы думаете об этом тексте?
— Господин профессор, — тихо отвечал Эдмунд, — мне кажется, в данном случае вы недооцениваете значение словесной формы текста. Ведь важны не поверхностные толкования, которые мы даем словам, важны сами слова; по-моему, кроме голого смысла в них есть что-то еще: самый звук, самый выбор этих редких и архаичных слов, их созвучность и ассоциативная связь с заклинаниями Великого змея — лишь все это в совокупности и придавало заклятию магическую силу.
— Если только оно действительно такой силой обладало! — со смехом парировал профессор. — Жаль, кстати, что вам не выпало жить в те времена, когда эти заклятия еще были в ходу. Вы стали бы в высшей степени благодарным объектом колдовских трюков тогдашних шарлатанов. К сожалению, вы опоздали на несколько тысячелетий. Готов побиться об заклад: как бы вы ни старались скрупулезно точно выполнить предписания этого фрагмента, никакого результата вам не получить.
Довольный профессор отвернулся и увлеченно заговорил о чем-то с другим студентом.
Меж тем Эдмунд вновь пробежал глазами текст, он помнил, что сильнее всего поразили его первые строки, в которых словно бы о нем самом, о его душе шла речь. Слово за словом произнес он про себя заклинание и шаг за шагом начал выполнять то, что в нем предписывалось: «Если случится с тобой, что душа твоя станет больна и позабудет, что надобно ей для жизни, и ты пожелаешь узнать, что надобно твоей душе и что ты должен дать ей, тогда изгони все из своего сердца, пусть оно станет пустым…» — и так далее.
В этот раз Эдмунду удалось сосредоточиться лучше, чем когда-либо ранее при подобных опытах. Он следовал наставлениям древней рукописи, и какое-то чувство говорило ему, что именно теперь настало время выполнить их, потому что душа его в опасности, потому что она забыла то, что всего важнее.
Едва приступив к простым дыхательным упражнениям хатха-йоги[128], в которых он часто практиковался и раньше, Эдмунд почувствовал, что в нем происходит некое изменение, почувствовал, как в глубине его черепа словно бы раскрылась маленькая полость, увидел, что это — темная пещера размером не больше ореха, предельно сосредоточился на ней, все пристальнее вглядываясь в эту пещеру, это «материнское чрево». И понемногу затеплился в пещере слабый свет и стал разгораться все ярче, и все ясней и ясней выступало пред мысленным взором Эдмунда то, что следовало ему совершить ради продления своей жизни. Его не устрашило видение, он ни на миг не усомнился в его истинности — в сокровенных глубинах своей души он чувствовал, что видение правдиво, что оно явило ему лишь одно — «забытую» им глубочайшую потребность его души.
И, внезапно исполнившись прежде неведомых сил, радостно и уверенно сделал он то, что повелело сделать ему видение. Он открыл глаза, поднялся со скамьи и шагнул вперед, поднял руки, сомкнул их на шее профессора, сжал ими шею и не отпускал, пока не почувствовал — хватит. Мертвое тело повалилось наземь. Эдмунд отвернулся от него и лишь теперь вспомнил, что был не один: его товарищ, бледный как покойник, с выступившими на лбу каплями пота, оцепенев от ужаса, не мигая смотрел на Эдмунда.
— Все сбылось, буквально, дословно сбылось! — в восторге воскликнул Эдмунд. Мое сердце стало пустым, дыхание редким и слабым, мысли сосредоточились на пещере в моем черепе, взгляд проник в самую ее глубину, и там я увидел учителя, увидел себя, увидел, как мои пальцы сжимают его шею, я все, все увидел. И так легко мне было выполнить повеление — без малейших усилий, без всяких колебаний! А теперь мне так удивительно хорошо, как никогда в жизни еще не бывало!
— Опомнись! — крикнул студент. — Приди в себя, пойми: ты же убил! Ты убийца! И тебя казнят за убийство!
Эдмунд его не слушал. Эти слова пока что не достигали его слуха. Тихо повторял он слова магической формулы: «mar pegil trafu gnoki», — и не видел ни мертвых, ни живых учителей, а видел лишь бескрайний простор всего мира, всей жизни, раскрывшийся перед ним.
Перевод Г. Снежинской
В прекрасной Швабии много прекрасных и весьма примечательных городов и деревень, дышащих достойными воспоминаниями, и многие из них нашли превосходное, прямо-таки классическое отражение. Достаточно напомнить трехтомную историю Бопфингена, написанную Мегерле, и доскональные исследования Мёрике, посвященные роду Виспелей. Пусть первым опытом и основой для дальнейших краеведческих описаний, которые выполнит профессиональное перо, послужат нижеследующие исторические заметки о Кнерцельфингене, жемчужине Кнерцельталя. Ибо воистину настала пора в кои-то веки замолвить словечко за Кнерцельфинген и пробудить от многовекового сна сию спящую красавицу — жемчужину среди чудеснейших долин нашей родины.
В этой поросшей в основном лиственным лесом и украшенной романтичными сланцевыми скалами долине берет начало отлично известная каждому швабскому школьнику из уроков краеведения небольшая резвая речушка, или ручеек, по имени Кнерцель. Вспоминается один известный анекдот из славной культурной истории Вюртемберга, повествующий о том, как Людвиг Уланд, оканчивая школу, во время выпускного экзамена стоял перед своим уважаемым учителем Хозиандером и вопрос оного о двадцать первом левом притоке Некара, к глубокому сожалению заслуженного педагога, почтил досадным молчанием. Сегодня для нас представляется весьма знаменательным, что именно наш великий Уланд, который увековечил в своей поэзии не одно название швабских местечек и деревушек, допустил такой странный пробел в своих обычно столь обширных знаниях. Подобно великому поэту, позабывшему о Кнерцель, ею уже давно пренебрегают наша литература и наша общественность. А ведь некогда и здесь мощно бурлил поток истории, еще и сегодня есть что порассказать об этой местности, и немало найдется занимательных преданий и легенд, за которые следовало бы по мере возможности приняться, прежде чем могучее половодье нового времени, которое сводит на нет любое своеобразие, затопит и этих свидетелей стародавних времен.
Первоначально, то есть до рокового 1231 года, долина принадлежала к обширным владениям графского рода фон Кальв, тогда как сам замок Кнерцельфинген воздвигнут был, по-видимому, не фон Кальвами, а Кнорцем Первым гораздо раньше, в незапамятные времена. Довольно удачное изображение этого замка мы находим еще среди гравюр Мериана, но сегодня он исчез с лица земли, и лишь холм по прозванию Бурьянная гора — густо поросший крапивой и чертополохом, эдакая куча мусора, примечательная разве что для ботаника — напоминает о славном замке. Не исключено, что Кнорц Первый, воздвигший замок, и Кнорц Удивительный, излюбленный герой столь многих народных сказаний, суть одно лицо, но наука не только не разрешила этого вопроса, но старательно обходит его, выказывая определенную боязливость. Между тем рыцарь Кнорц, герой целого ряда самобытных, очаровательных народных легенд, признан новейшими исследователями фигурой скорее всего мифической, — следовательно, многочисленные следы, которые этот достопочтенный герой оставил в былях и нравах, в быту и говоре жителей Кнерцельфингена, ни на чем не основываются. Упоминания достойно лишь то, что несколько странные обороты речи, такие как «кнорцевать» — то есть биться над чем-либо, и «кнорец», то есть скупец, согласно гениальным выводам Фишера и Боненбергера[130], бесспорно, обязаны своим существованием циклу именно этих легенд, и, между прочим, их употребление распространилось на всю швабскую языковую область. Среди историй о родном крае, которые, как нам доподлинно известно, наш высокочтимый повествователь Мартин Курц хотя и собирался написать, но, к его стыду, до сих пор так и не написал, был, говорят, и невоплощенный роман о Кнорце Удивительном.