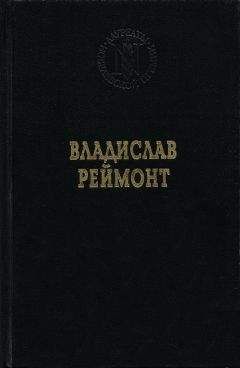— Значит, будут деньги?
— И немалые. Как раз сегодня я намерен обделать два дела. Если они выгорят, я сразу выдвинусь на настоящую дорогу. Но обещанную сумму ты можешь получить еще до вечера. Да, как поступить с хлопком?
— Подожди пока продавать. У меня есть одна идея.
— Что это Макс так свирепо посмотрел на меня и даже не поздоровался?
— Не знаю. Он сказал вчера, будто по твоему лицу видит, что ты замышляешь какую-то пакость.
— Дурак! Я выгляжу как порядочный человек, не правда ли? — говорил Мориц, пристально разглядывая себя в зеркале и стараясь придать добродушное выражение своему хищному, с резкими чертами лицу.
— Не обижайся на него: он огорчен делами отца.
— Я советовал ему учредить над ним опеку, объявить неправоспособным и взять в свои руки управление фабрикой. Только так еще можно хоть что-то спасти, но он не захотел, хотя зятья и сестры согласны.
— Состояние принадлежит отцу, считает Макс, и он волен поступить с ним как угодно, даже если это грозит разорением.
— Слишком он умен, чтобы всерьез так думать. Тут что-то другое…
— А может, и нет. Согласись, не очень-то приятно объявить сумасшедшим своего отца.
— Никто не говорит, что это приятно. Отец есть отец. Но ради фабрики, ради интересов дела надо чем-то жертвовать… А ты как поступил бы на его месте?
— Мне об этом незачем думать: у моего отца почти нет состояния…
Мориц засмеялся и стал готовиться к выходу; одевался он медленно, бранился с Матеушем, переменил несколько раз платье и перебрал с десяток галстуков.
— Ты одеваешься так, словно собрался делать предложение…
— Это тоже не исключено, — отвечал он, криво улыбаясь.
Наконец он был готов, и они вместе с Каролем вышли из дому. Однако ему дважды пришлось возвращаться с дороги за забытыми по рассеянности вещами. А когда он надевал пенсне, у него дрожали руки, — очевидно, так действовала на него усилившаяся жара.
Он то и дело вздрагивал и несколько раз ронял трость.
— У тебя такой вид, будто ты чего-то боишься.
— Нервы расшатались… Наверно, от переутомления, — промямлил Мориц.
Они зашли в цветочный магазин, и Кароль купил большой букет роз и гвоздик и отослал Анке. Таким образом он хотел загладить свою вину.
Мориц отправился к себе в контору на Пиотрковскую, но заниматься делами не мог; заглянул только на склад, где хранился хлопок, отдал распоряжения Рубинроту, выкурил подряд несколько папирос, не переставая думать о предстоящем разговоре с Гросгликом.
Временами он начинал дрожать, как в лихорадке, машинально ощупывал карман, в котором лежал клеенчатый конверт с деньгами, но успокоившись, принимал независимый вид и решал немедленно действовать.
В одну из таких минут он смело направился к Гросглику, однако, дойдя до его конторы, повернул обратно и некоторое время прогуливался по Пиотрковской. Тут его словно осенило, и накупив самых дорогих и красивых цветов и велев перевязать их ленточкой, тоже не из дешевых, написал на визитной карточке адрес Грюншпанов и отослал букет Меле, наказав вручить вместе с визитной карточкой.
Деньги, потраченные на цветы, он вписал в графу «непредвиденные личные расходы», но, подумав, слово «личные» заменил на «служебные».
«Это надо хорошенько обдумать», — в оправдание себе решил он. И хотя было еще рано, отправился на Спацеровую, где он столовался.
Там убирали со столов раскроенную материю и накрывали к обеду; из соседней комнаты слышались обрывки разговоров и стук швейных машинок.
Постепенно начали сходиться к табльдоту.
Первым явился Малиновский и забился в угол. Его бледное осунувшееся лицо встревожило пани Стефанию.
— Что с вами? — спросила она, подходя к нему.
— Мне нездоровится…
Говоря это, он тер рукой лоб, вздыхал, и в его зеленых глазах читалась такая тоска, что она молча отошла, не зная что сказать.
За обедом он не принимал участия в общем разговоре и только, когда к нему подсел Горн, понизив голос, промолвил:
— Я знаю, где она.
— Кто?
— Зоська… В Стоках, у Кесслера.
— Ты все еще думаешь о ней?
— Нет… Просто мне хотелось знать, где она, — сказал он и замолчал.
— Знаете, господа, зять Грюншпана, Гросман, арестован, — сообщил собравшимся Горн.
— Знаем, знаем. Ничего, посидит, голубчик, и в другой раз неповадно будет петуха пускать.
— Гросман — это зять красавицы Мели? — спросила пани Стефания.
— Да. На днях у бедняги сгорела фабрика, он рассчитывал получить страховку, а его — цап! — и в кутузку.
— Это недоразумение. Его сегодня же освободят, — отозвался Мориц.
— Несчастный народ эти евреи: всегда-то они безвинно страдают, — насмехался Серпинский и стал доказывать Морицу, что на свете нет худшей нации.
— Болтайте себе на здоровье, это способствует пищеварению. Но интересно знать, отчего вы не скажете этого своему патрону Баруху? Или вы полагаете, он — шляхтич? — снисходительным тоном говорил Мориц, которого забавляла запальчивость Серпинского.
Остальные поддержали Серпинского, и за столом вспыхнул спор.
— Пан Горн! — позвала Кама. — Подите сюда! Я хочу вас спросить о чем-то.
— Слушаю, — сказал Горн, садясь рядом на свободный стул.
— У вас есть метресса? — громко спросила она.
От неожиданности все словно онемели, а потом дружно расхохотались.
— Что ты болтаешь?! — вскричала тетка, которую слова девочки вогнали в краску.
— А что я такого сказала? В любом французском романе можно прочесть, что у молодых людей бывают подружки, — не смутясь, отвечала она.
— Повторяешь, как попугай, иностранные слова, не понимая, что они значат.
— Господи, за что вы на меня сердитесь, тетя! — Девочка пожала плечами и ушла в гостиную. А Горну, который последовал за ней, сердито сказала: — Если я попугай, нечего со мной разговаривать.
— Так назвала вас тетя, а не я. Скажите, Кама, почему вы со мной не поздоровались? И почему дуетесь, третируете меня?
— С чего это вы взяли? Отправляйтесь лучше кутить к шансонеткам. Мне все, все известно…
— Что именно, Кама? — спросил он, с трудом сдерживая смех.
— Все, все!.. Вы — противный, гадкий распутник!.. Пан Фишбин сказал мне, почему вы не были у нас в воскресенье… Вы напились в «Аркадии», пели песни и целовались с этими… Я ненавижу вас, вы мне отвратительны…
— А я вас еще больше люблю!
Он хотел взять ее за руку, но она вырвалась и укрылась за столом.
— Конечно, когда вам было плохо, вы приходили, чтобы мы утешали вас, прикладывали к голове компрессы…
— Когда это я нуждался в утешении?
— До того, как получили место у Шаи.
— Вот уж никогда не испытывал в этом нужду, а тем более тогда, потому что был свободен и приятно проводил время.
— Как?! Значит, вы не страдали? — подскочив к нему, вскричала Кама.
— И не думал.
— А сейчас? — нетерпеливо спрашивала она, и в голосе ее слышались слезы, обида и возмущение.
— Кама, с чего это ты взяла? Что с тобой?
— Ах, вот как!.. А я-то за вас молилась… Даже молебен заказала о вашем благополучии. Новую шляпку не купила, подумала: нехорошо наряжаться, когда у человека горе… Плакала, постоянно думала о вас, по ночам не спала, страдала, а вы, оказывается, не нуждались в моем сочувствии! Боже, какая я несчастная! — шептала она прерывающимся обиженным голосом, и из глаз ее градом катились слезы.
— Кама, милая Кама! Девочка моя дорогая! — взволнованный и растроганный, говорил он, целуя ей руки.
Но Кама вырвалась, спрятала в ладонях лицо и, рыдая, говорила:
— Я вас больше не люблю! Если бы вам было плохо, я пошла бы за вас… в огонь… на смерть… Гадкий, нехороший человек… Обманщик!..
Она плакала навзрыд. А Горн, не зная, как подступиться к ней, пытался оправдываться, но она не желала ничего слушать. И хотя он был тронут, ее ребячество смешило его. Он сел рядом на кушетку, но она, подхватив на руки собачку, вскочила.
— Куси его, Пиколо! Куси! — приговаривала она. — Он — гадкий обманщик! И Кама его больше не любит.
Горн улыбнулся и пошел к двери, так как завыли фабричные гудки, возвещая конец перерыва.
— Как, вы даже не хотите со мной попрощаться? И не считаете нужным извиниться? Она вскочила, утирая слезы. — Ах, так! Я вас знать больше не желаю! И буду ходить гулять с Малиновским, Кшечковским, с Блюменфельдом и вообще, с кем мне заблагорассудится. Да, да, вот увидите! И не воображайте, пожалуйста, будто я дорожу вашим обществом…
— Мне это безразлично. В «Аркадии» гораздо приятней проводить время, чем с Камой.
— И мне безразлично. Целуйтесь, напивайтесь до чертиков…
— Итак, прощайте! Мы расстаемся навеки! — патетически произнес он и вышел.
Сердито, с каменным равнодушием смотрела она ему вслед, но когда за ним закрылась дверь и на лестнице послышались удаляющиеся шаги, ей сделалось страшно, что он в самом деле никогда больше не придет.