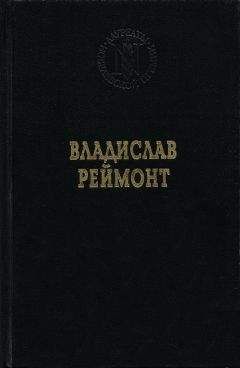Город Лодзь пробуждался.
Первый пронзительный фабричный гудок прорвал тишину раннего утра, и вслед за ним во всех концах города зазвучали другие; они орали все громче, хрипло и надсадно, будто хор гигантских петухов, металлическими голосами поющих призыв к труду.
Огромные фабрики, чьи продолговатые темные туловища и стройные шеи-трубы чернели средь сумерек, тумана и дождя, — медленно просыпались, вспыхивали огнями горнов, выдыхали клубы дыма, начинали жить и шевелиться в темноте, еще окутывавшей землю.
Непрерывно моросил мелкий мартовский дождь со снегом, расстилаясь над Лодзью тяжелым, липким туманом; он барабанил по жестяным крышам, и струи стекали с них прямо на тротуары, на черную, топкую грязь улиц, на голые деревья, прижавшиеся к длинным кирпичным стенам, дрожащие от холода, терзаемые ветром, который, срываясь откуда-то с размокших полей и тяжело перекатываясь по болотистым улицам города, сотрясал дощатые заборы, ударял по крышам и сникал где-то в грязи, пошумев в ветвях деревьев и постучав ими в окна низкого одноэтажного дома, в котором вдруг появился свет.
Боровецкий проснулся, зажег свечи, и тут же отчаянно зазвонил будильник, заведенный на пять часов.
— Матеуш, чаю! — крикнул он входившему слуге.
— Все готово.
— Господа еще спят?
— Сейчас пойду их будить, если вы, пан инженер, прикажете, а то пан Мориц вечером сказал, что хочет сегодня поспать подольше.
— Иди буди. Ключи уже взяли?
— Сам Шварц заходил.
— Ночью кто-нибудь звонил по телефону?
— Дежурил Кунке, но, когда уходил, ничего мне не сказал.
— Что слышно в городе? — спрашивал второпях Боровецкий, быстро одеваясь.
— Да ничего, только вот на Гаеровом рынке рабочего зарезали.
— Ладно, ступай.
— А еще сгорела фабрика Гольдберга на Цегельняной. Наши пожарные поехали, да куда там, одни стены остались. Огонь из сушильни пошел.
— Что еще?
— Да ничего, все сгорело дотла, чистая работа, хохотнул Матеуш.
— Наливай чай, пана Морица я сам разбужу.
Боровецкий, уже одетый, вышел в столовую, где от висячей лампы падал резкий, яркий свет на круглый стол, покрытый скатертью и уставленный чашками, и на блестящий самовар.
— Макс, пять часов, вставай! — крикнул Боровецкий, приоткрывая дверь в темную комнату, из которой его обдало духотой и запахом фиалок.
Макс не откликнулся, только заскрипела, затрещала кровать.
— Мориц! — крикнул Боровецкий, приоткрывая дверь в другую комнату.
— Я не сплю. Всю ночь не спал.
— Почему?
— Все думал о нашем деле, подсчитывал.
— Знаешь, Гольдберг-то в эту ночь сгорел, совсем, дотла, как выразился Матеуш.
— Для меня это не Бог весть какая новость, — ответил, зевая, Мориц.
— Откуда ты мог знать?
— Да я уже месяц тому назад знал, что ему пора сгореть. Даже удивлялся, что он так долго тянет, он же мог не получить процентов по страховке.
— Много у него было товара?
— Застраховано было много…
— Вот и выровнял себе баланс.
Оба от души рассмеялись.
Боровецкий вернулся в столовую и сел пить чай, а Мориц, как обычно, принялся искать по всей комнате части своего гардероба и бранить Матеуша.
— Я тебе всю морду расквашу, будет она у тебя красная как кумач, если не научишься аккуратно складывать мои вещи.
— Морген![1] — крикнул проснувшийся наконец Макс.
— Ты не встаешь? Уже шестой час.
Ответ заглушили гудки, зазвучавшие будто над самым окном и несколько секунд гремевшие с такой мощью, что стекла в окнах дребезжали.
Мориц в одном белье, накинув на плечи пальто, уселся перед печкой, в которой весело трещали смолистые щепки.
— Ехать тебе никуда не надо? — спросил Боровецкий.
— Надо бы в Томашов съездить, Вейс писал, чтобы я привез ему новые чесалки, но сейчас не поеду. Холодно, и не хочется.
— А ты, Макс, тоже остаешься дома?
— Куда мне спешить? В эту паршивую контору? Да еще вчера с фатером выпили.
— Ох, Макс, ты плохо кончишь из-за этих выпивок со всеми подряд! — недовольно проворчал Мориц, разгребая кочергой жар.
— Это тебя не касается! — донесся голос из соседней комнаты.
Громко затрещала кровать, и в дверях появилась внушительная фигура Макса тоже в исподнем и в шлепанцах.
— Как раз очень даже касается.
— Оставь меня в покое, не действуй на нервы. То Кароль разбудил меня черт знает зачем, да еще ты цепляешься.
Голос у Макса был низкий, раскатистый.
Нырнув к себе в комнату, он через минуту вышел, неся в охапке одежду, кинул ее на ковер и стал одеваться.
— Ты своими попойками вредишь нашим делам, — снова начал Мориц, поправляя на своем тонком семитском носу пенсне в золотой оправе, которое у него постоянно съезжало.
— Чем? Как? Где?
— Всюду. Вчера у Блюменталей ты заявил во всеуслышание, что большинство наших фабрикантов просто воры и мошенники.
— Да, сказал и всегда буду это говорить.
И недобрая, презрительная усмешка промелькнула на его лице, когда он взглянул на Морица.
— Ты, Макс Баум, не будешь этого говорить, ты не должен этого говорить, я тебе запрещаю.
— Это еще почему? — спросил тот тихо и оперся ладонями о стол.
— Если ты не понимаешь, сейчас объясню. Прежде всего, какое тебе до этого дело? Какая тебе разница, воры они или порядочные люди? Мы тут в Лодзи собрались вместе, чтобы сделать гешефт, чтобы хорошо заработать. И каждый делает деньги, как он может и умеет. А ты красный, ты радикал самой яркой пунцовой окраски.
— Я честный человек, — пробурчал Макс, наливая себе чай.
Боровецкий, облокотясь на стол и спрятав лицо в ладонях, слушал молча.
Услышав ответ Макса, Мориц обернулся так резко, что его пенсне свалилось и ударилось о подлокотник кресла; он с едкой, иронической усмешкой на тонких губах взглянул на Макса, погладил длинными пальцами, на которых искрились брильянтовые перстни, черную как смоль бороду и насмешливо проговорил:
— Не мели глупостей, Макс. Речь идет о деньгах. Речь идет о том, чтобы ты свои обвинения не высказывал публично, потому что это может подорвать наш кредит. Мы втроем собираемся открыть фабрику, у нас ничего нет, значит, мы нуждаемся в кредите и доверии тех, кто нам этот кредит предоставит. Нам теперь надо быть людьми порядочными, вежливыми, любезными, добрыми. Если Борман тебе скажет: «Гнусный город эта Лодзь», ты подтверди, что четырежды гнусный, — ему надо поддакивать, он важная птица. А ты что о нем сказал Кноллю? Что он глупый хам. Нет, братец, он не глуп, он из своей башки миллионы добыл, эти миллионы у него есть, и мы тоже хотим их иметь. Мы этих толстосумов будем осуждать, когда у нас будут деньги, а пока надо помалкивать, мы в них нуждаемся; вот пусть Кароль скажет, прав я или нет, — я же забочусь о будущем всех нас троих.
— Мориц совершенно прав, — твердо произнес Боровецкий, поднимая холодные серые глаза на возмущенного Макса.
— Я знаю, что вы правы, по-здешнему, по-лодзински правы, но не забывайте, что я честный человек.
— Фразы, старые, избитые фразы!
— Мориц, ты подлый еврей! — возмущенно вскричал Баум.
— А ты глупый, сентиментальный немец.
— Вы ссоритесь из-за слов, — холодно проговорил Боровецкий, надевая пальто. — Жаль, что не могу с вами остаться, надо пустить в ход новый печатный станок.
— На чем мы остановились во вчерашнем разговоре? — уже спокойно спросил Баум.
— Мы открываем фабрику.
— Так, так! У меня ничего нет, у тебя ничего нет, у него ничего нет, — громко рассмеялся Макс.
— Но у всех у нас вместе есть ровно столько, чтобы открыть солидную фабрику. Что мы теряем? А заработать всегда можно. И, помолчав, Боровецкий прибавил: — Впрочем, либо мы делаем дело, либо мы не делаем дело. Решайте!
— Делаем, делаем! — повторили оба.
— Это верно, что Гольдберг сгорел? — спросил Баум.
— Да, поправил свой баланс. Умный малый, зашибет миллионы.
— Или кончит в тюрьме.
— Глупые речи! — раздраженно возразил Мориц. — Такие слова можешь говорить в Берлине, в Париже, в Варшаве, но не в Лодзи. Нам неприятно их слышать, уж ты избавь нас от них.
Макс не ответил.
Опять завыли пронзительные, нервирующие гудки, все громче возглашая утреннюю зорю.
— Ну что ж, мне надо идти. До свидания, компаньоны, не ссорьтесь, идите спать, и пусть вам приснятся миллионы, которые мы наживем.
— Наживем! Наживем! — гаркнули хором все трое.
И они обменялись крепкими дружескими рукопожатиями.
— Надо записать сегодняшнюю дату, она будет для нас памятной.
— Ты, Макс, оставь там местечко — запишем имя того, кто первым задумает надуть остальных.