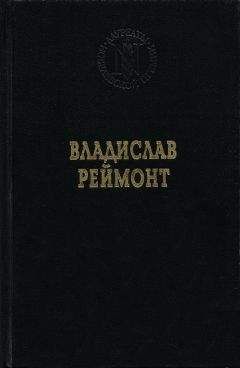Лишь недолгие минуты сидел он в своем кабинетике рядом с «кухней» и там, отрываясь порой от комбинирования новых рисунков, от рассматривания присланных из-за границы образцов в огромных альбомах, громоздившихся на столах, он задумывался — вернее, пытался думать — о себе, о проекте фабрики, который они с приятелями лелеяли, но все не мог собраться с мыслями, сосредоточиться — фабрика, шум которой слышался и в его кабинете, а движение и ритм проникали в его нервы, отдавались даже в биении пульса, не позволяла уединиться, властно вовлекала, вынуждала служить ей и повиноваться каждого, кто попадал в ее орбиту.
Боровецкий то и дело вскакивал и опять куда-то бежал, но день для него тянулся мучительно долго, — лишь около четырех часов пополудни он пошел в контору, находившуюся при другом цехе, чтобы выпить чаю и позвонить Морицу, напомнить, чтобы тот сегодня был в театре на благотворительном любительском спектакле.
— Всего с полчаса, как от нас ушел пан Вельт.
— Он был здесь?
— Взял пятьдесят штук белого товара.
— Для себя?
— Нет, по поручению Амфилова, в Харьков. Могу вам предложить сигару?
— Спасибо. С удовольствием покурю, я чертовски устал.
Он закурил и сел на высокий стул перед письменным столом.
Главный бухгалтер конторы, почтительно угостивший его сигарой, стоял перед ним, набивая табаком свою трубку, а несколько юнцов, восседавших на высоких табуретах, что-то писали в больших, с красными линейками, амбарных книгах.
Царившая в конторе тишина, нарушаемая лишь неприятным скрипом перьев и однообразным попыхиванием куривших, раздражала Боровецкого.
— Что нового, пан Шварц? — спросил он.
— Розенберг обанкротился.
— Совсем?
— Еще неизвестно, но я думаю, он будет договариваться, иначе что за интерес просто объявлять себя банкротом? — тихо засмеялся пан Шварц и прижал пальцем влажный табак в трубке.
— Наша фирма много теряет?
— Это зависит от того, какой процент он будет платить за сто.
— Бухольц знает?
— Сегодня он у нас еще не был, но когда узнает, ему станет плохо, — он очень чувствителен к убыткам.
— Как бы его удар не хватил, — прошептал кто-то из склонившихся над амбарными книгами.
— Жаль было бы!
— Очень жаль, упаси Бог!
— Пусть живет сто лет, пусть будет у него сто дворцов, сто миллионов, сто фабрик.
— И заодно пусть сто чертей его унесут! — опять прошептал кто-то из юнцов.
Стало совсем тихо.
Шварц грозно взглянул на писавших, потом на Боровецкого, словно желая оправдаться, что он, мол, тут не виноват, но Боровецкий со скучающим видом смотрел в окно.
Атмосфера гнетущей скуки снова воцарилась в конторе. Уныло желтели стены с деревянными, крашенными под дуб панелями до самого потолка, вдоль стен стояли полки с рядами бухгалтерских книг.
Напротив окна конторы высилось большое пятиэтажное здание из красного неоштукатуренного кирпича, от его стен на все помещение конторы ложился зловещий красноватый отсвет.
Через асфальтированный двор, по которому то и дело со стуком проезжали повозки и проходили люди, на уровне второго этажа во все стороны расходились толстые, как руки атлета, трансмиссии, от их глухого гула оконные стекла в конторе непрерывно дребезжали.
Небо нависало над фабрикой тяжелой, грязной пеленой, из которой капал мелкий дождь, по грязным стенам текли еще более грязные струи, — будто тошнотворные плевки, они прочерчивали оконные стекла, покрытые налетом пыли от угля и от хлопка.
В углу на газовой плите зашумел чайник.
— Не угостите ли меня чаем, пан Горн?
— А может, вы, пан инженер, изволите съесть бутербродец? — любезно предложил пан Шварц.
— Только он кошерный, — съязвил Горн.
— Значит, он вкуснее, чем те, что едите вы, пан фон Горн!
Горн подал чай и на минутку задержался у стола.
— Что с вами? — спросил Боровецкий, знавший его довольно близко.
— Ничего, — коротко ответил тот и окинул ненавидящим взглядом Шварца, который разворачивал газету с бутербродами и выкладывал их перед Боровецким.
— Вы очень неважно выглядите.
— Пану Горну служба на фабрике не впрок. После гостиных ему трудно привыкнуть к конторе и к работе.
— Конечно, скоту или какому-нибудь ничтожеству легко привыкнуть к ярму, а человеку труднее, — прошипел фон Горн со злобой, но так тихо, что Шварц не расслышал его слов и, бессмысленно усмехаясь, проговорил:
— Пан фон Горн! Пан фон Горн! Попробуйте, пан инженер, тут, знаете ли, комбинация колбасы с пуляркой, моя жена на это большая искусница.
Горн отошел от них и сел за свой стол, глаза его блуждали по красной кирпичной стене, по окнам, за которыми белели кипы растрепанного, подготовленного для прядения хлопка.
— Налейте-ка мне еще чаю.
Боровецкому хотелось выведать, что у Горна на душе.
Горн принес чай и, не подымая глаз, повернулся, чтобы отойти.
— Не заглянете ли, пан Горн, ко мне через полчасика?
— Хорошо, пан инженер. У меня даже есть к вам дело, и я собирался завтра к вам зайти. А может, вы меня теперь выслушаете?
Горн хотел что-то сказать потихоньку, но тут в комнату вошла женщина, толкая перед собой четырех ребятишек.
— Слава Иисусу Христу! — проговорила она, окинула взглядом все обернувшиеся к ней лица и смиренно поклонилась в ноги Боровецкому, потому что он сидел ближе всех и с виду был представительнее прочих.
— Ваше благородие, вельможный пан, вот пришла я с просьбой — мужу моему голову в машине оторвало, и осталась я теперь нищей сиротою с детками, бедствуем мы. Пришла к вам просить справедливости, чтобы вельможный пан дал мне хоть какое-то вспомоществование, потому как мужу моему голову в машине оторвало. Ваше благородие, вельможный пан, — и, разражаясь плачем, она опять склонилась к коленям Боровецкого.
— Убирайся вон, тут такие дела не решают! — крикнул Шварц.
— Ну, ну, помолчите! — цыкнул на него Боровецкий.
— Да она уже полгода ходит по всем нашим цехам и конторам, никак от нее не избавиться.
— А почему дело не решено?
— Вы еще спрашиваете? Этот хам нарочно подставил свою башку под колесо, работать ему не хотелось, хотелось фабрику обокрасть! Теперь мы должны платить его бабе и их ублюдкам!
— Ах ты, пархатый, это мои дети — ублюдки! — завопила женщина, яростно кидаясь на Шварца, который попятился от нее за стол.
— Тише ты, дуреха! Да успокойтесь, пани, и пусть ваши деточки замолчат! — испуганно закричал он, указывая на ребятишек, цеплявшихся за мать и оравших что есть силы.
— Ох, вельможный пан, это ж чистая правда, я хожу к ним с осени, они все обещают, что заплатят, я все хожу и прошу, а меня дурят, а то иной раз и гонят со двора, как собаку.
— Успокойтесь, я сегодня поговорю с хозяином, приходите через неделю, и вам заплатят.
— Дай тебе Христос и Матерь Божья Ченстоховская счастья и здоровья, богатства и чести, драгоценный ты мой! — зачастила она, припадая к его ногам и осыпая поцелуями руки.
Боровецкий вырвался от нее и вышел из комнаты, но в просторных сенях остановился и, когда она вышла вслед за ним, спросил:
— Из каких вы краев?
— А мы, вельможный пан, из-под Скерневиц.
— В Лодзи давно?
— Да уж года два, как перебрались сюды, на свою погибель.
— Вы где-то работаете?
Так разве ж меня возьмут на работу эти нехристи, эти еретики окаянные, а потом, как же я своих сироток оставлю?
— На что ж вы живете?
— Бедствуем, вельможный пан, бедствуем. Живу я в Балутах[4] у ткачей, за квартиру плачу целых три рубля в месяц. Пока жив был мой покойник, так хотя частенько на одном хлебе сидели, а то и поголадывали, а все ж таки жить можно было, а теперь, как его не стало, хожу в Старое Място подрабатывать, кто на стирку позовет, так и перебиваемся, — быстро говорила она, укутывая детей в засаленные, рваные платки.
— Отчего не возвращаешься в деревню, домой?
— Вернусь, вельможный пан, пусть мне только за мужика заплатят, вестимо, вернусь, а этот городишко Лодзь — чтоб холера на него нашла, чтоб огонь его спалил, чтоб пан Иисус никогошеньки тут не пожалел, чтоб все они тут до единого передохли!
— Тише, замолчите, за что вы город-то проклинаете? — произнес Боровецкий с досадой.
— Как это — за что? — удивленно воскликнула она, поднимая к нему бледное, некрасивое, изъеденное нуждою лицо с заплаканными, выцветшими голубыми глазами. — Мы, вельможный пан, в деревне-то жили как постояльцы, у мужика моего было-таки три морга[5] земли, что он в наследство от отца получил, а халупу-то не на что было поставить, вот и жили мы у двоюродных родичей своих. Муженек ходил на заработки, а все ж мы жили по-людски, и картошку, бывало, посадишь, хоть и с отработкой, и гуся выкормишь или же кабанчика, и яичко свое было и корова, а здесь что? Бедняга мой надрывался от зари до зари, а есть нечего было, жили как последние нищие, не скажешь, что христиане, как собаки жили, не как добрые хозяева.