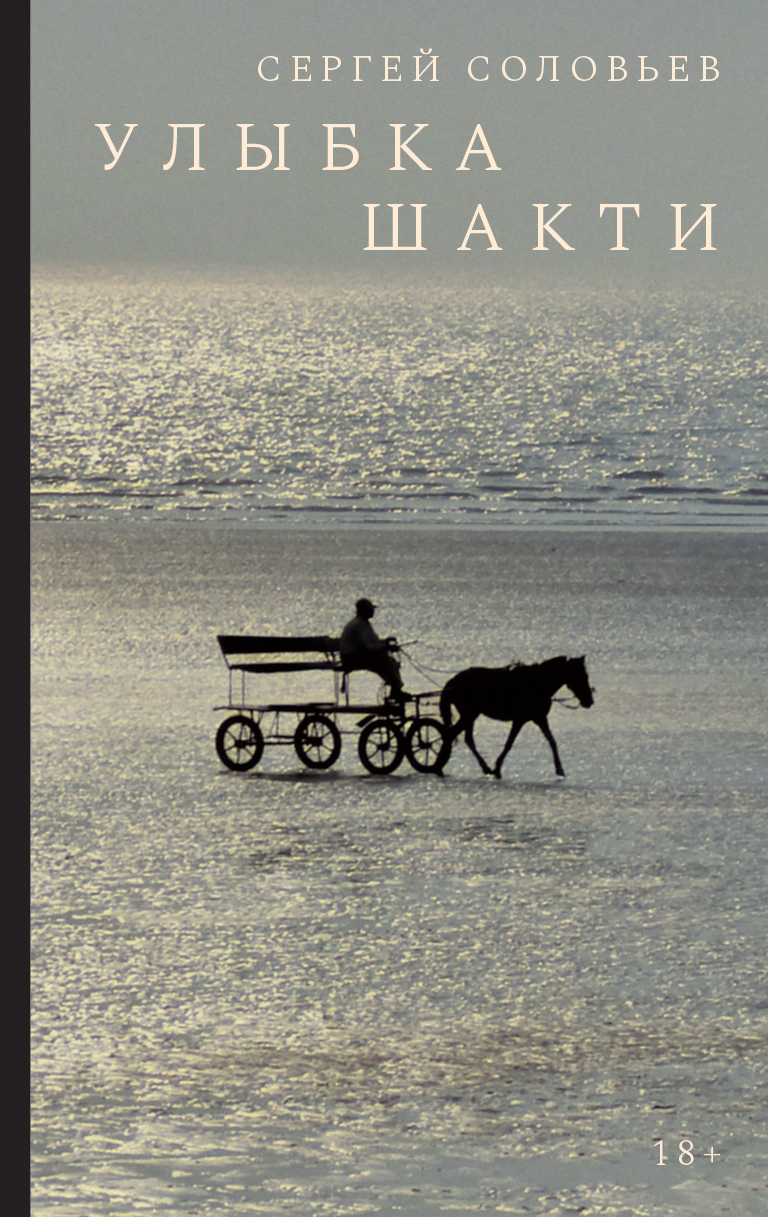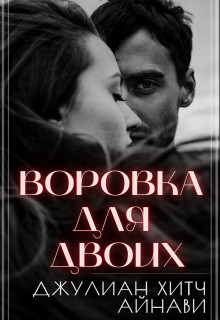клавишах, похожих на индийские проселочные дороги, ну это как ваш Король Лир… этого, как его… Копперфилда, и снова входят в образ, хотя что это я – никто из него и не выходил, они и воспринимают происходящее оттуда, из эпоса, этажом ниже в участке с утра до вечера идут допросы, рушатся судьбы, раздаются крики, стенанья, текут слезы, заполняются бумаги, а на втором этаже их сослуживцы в этой же полицейской форме проживают события Махабхараты как происходящее с ними сейчас и здесь – те же крики и слезы, те же рушащиеся судьбы, достаточно посмотреть на этого Бхиму, что с ним сейчас происходит: машет полицейской дубиной, кричит, поет, взлетает, падает, утирает глаза, молит небо, а мастер-учитель, наяривающий на клавишах, обрывает музыку, говоря ему: нет, не так, вырви свое сердце, смотри на Кришну, давай, Бхима, давай сначала, и он дает, и глаза у него наливаются огнем и смертью, и он с хрустом ломает об колено человека, настоящего человека, и никого в голом актовом зале ночного полицейского участка, кроме Кришны, Арджуны и мастера, сидящих у стен и глядящих на этого трехтысячелетнего Бхиму, от которого сейчас зависит весь дальнейший ход истории мира, никого, кроме них и меня, пришедшего босиком во тьме на эти крики, раздававшиеся вперемеж с воем собак над всей спящей джайнской деревней с верблюжьими холмами, Чандрагуптой Маурья, письмами Македонскому, каменным колоссом Бахубали, голыми джайнами с павлиньими метелками, храмами, прудом, рынком, католиком Джоном и луны, а на рассвете мы уже сидим с ними в чайной по соседству и, продолжая разговор, я спрашиваю: а что же женщины, будут ли они в сюжете, и они говорят, что да, но приедут из столицы уже на само представление, они профессиональные актрисы, и, конечно, хорошо бы нам с ними хоть разок порепетировать, но не получится, так что все будет как впервые, как и было в те времена, по-живому, и дарят мне на прощанье мятую брошюрку с дайджестом Бхагавадгиты и расписываются на память: Кришна, Бхима, Арджуна, и над деревней восходит солнце, и вот год спустя я захожу в полицию обняться с ними, а нет их, как сказала похожая на борца сумо трехсоткилограммовая женщина-шар, начальник участка, полицейскую форму для которой, видимо, шили большой артелью, а могли бы задрапировать и корабль, уж год как нет их, говорит, после представления Махабхараты, на которое обычно съезжаются с детьми и скарбом на неделю несколько тысяч зрителей из ближайших деревень, перевели их в другой участок, в другой эпос, и вот возвращаюсь я в свою комнату и думаю: куда же, куда, и смотрю карту, и взгляд мой все чаще соскальзывает в сторону того, что все эти пятнадцать лет моих путешествий Индия держала в заведенной за спину руке, будто приберегая до этого дня, и беру билет на самолет в те края, где ревут водопады, зеленеют леса и все еще живут в горах дикие племена, не очень жалующие наш мир, помнят царство Бастар и короля, убитого полицией на крыльце своего дворца, поют песни, ткут чудеса, чтят богиню Дантешвари, которая в каждом дереве, языке огня и клочке земли, уклоняются от пуль, снующих между армией и маоистами, собирают мед, готовят вино из цветов махуйя, закусывают муравьями и занимаются древним волшебством ремесел, как, например, изделия по металлу, которые делает особая каста по почти утраченной методике, которой несколько тысяч лет со времен Мохенджо-Даро – в Чаттисгарх.
Память уходит, недолгие узоры на воде остаются. А были на земле, и куда отчетливей. А скоро и воду покинут, перейдут в воздух, неразличимые. И исчезнут эти призрачные конвойные по сторонам – прошлое и будущее, и останется голое настоящее, недостижимое. Да, наверно, было несколько поворотных точек, знаков, неслучайных случайностей, пропусти я любой из этих указателей, и все пошло бы по другому пути. Первый – там, в Шраванабелаголе, с решением лететь в Чаттисгарх.
Вылетел из Бангалора, приземлился в Райпуре, поселился в гостинице, название которой прочел лишь наутро: Гуру. Думал не задерживаться в городе, о котором повсюду пишется, что смотреть там нечего, а ехать прямо на юг штата – к водопадам и племенам, в царство Бастар. Но неожиданно узнал о древнем монастыре святого Молочника на окраине города. И провел там весь день. Какой чудесный теплый жилой космос, давно мне так хорошо не было. С первого шага, когда вошел в ворота и местный садху в ответ на приветствие поманил рукой разделить с ним трапезу – горячие чапати, которые он пек там на костерке. А потом, среди множества храмов на этом маленьком подворье за крепостными стенами, часовня Ханумана, вся обвешанная красными тряпичными мешочками с кокосом внутри и нашептанными в них упованиями прихожан. Как будто вся в алых сердечках с незримой запиской внутри. А напротив, в пустынном храме Баладжи, у алтаря сидят на полу два мальчика, они же пуджари, и играют в шахматы, те самые, которые еще на заре времен были созданы индусами. У входа стоит наряженный в прозрачное светящееся сари Гоголь. До оторопи Гоголь, хотя и оказался Гарудой. Волшебной птицей. Птицей тройкой. А стены в волшебных росписях, и белый единорог-нильгау среди них. И крашеная фигура юной матери Кришны, от которой не мог отвести глаз, не понимая, почему, и только дни спустя – дошло: на маму мою похожа, те же губы, улыбка, разрез глаз. А на подворье тихая размеренная жизнь – что-то готовят на костре, едят, сидя под навесами и на ступенях, пилят дрова, носят воду из пятисотлетнего колодца. В одной из пристроек – ватага мальчишек, вроде послушников, или монастырская школа здесь. Стена с ячейками, как в вокзальной камере хранения, там их вещи, а в углу под одеяльцем двое лежат. Кришна и Радха? Смеются, сдергивают с них одеяло. А над крепостной стеной – жилая галерея, бельишко сушится, женщины воркуют, в комнатах полумрак, спускаюсь по лестнице, а навстречу мне монах, повторивший раз десять мое имя, чтобы запомнить, и называет свое – длинное, как список кораблей, и говорит о себе «мы», как тот Океан Медитации в Шраванабелаголе. А где, спрашиваю, настоятель монастыря, можно ли его увидеть? Да, отвечает, но он сейчас спит, и ведет меня к нему. Зачем же, говорю, не стоит его тревожить, у меня есть время. У него тоже, улыбается монах. Подходим, вот здесь он, и откланивается. У входа в склеп надпись: здесь лежит в самадхи такой-то. Триста лет, ни жив, ни мертв. То есть, скорее, жив, чем мертв. Может встать в любой момент, попить чаёк. Вышел сквозь арку в дворик за крепостной стеной – там хлев, коровы лежат вокруг другой часовеньки. Вернулся, присел с садху-привратником, он уже книгу старинную читает полулежа на ступенях и напевает себе под нос, так и сидели с ним, привалившись спина к спине, пока солнце садилось. Вот не окажись я у святого Молочника, не пошел бы на следующий день на автостанцию, чтобы поехать в Сирпур. Может, и пошел бы, но не именно в тот день и час, и тогда бы все сложилось иначе и не было бы этой хижины впереди.
Около сотни автобусов, еле продвигавшихся к устью автостанции, образуя заторы, треть автобусов – без водителей, в других они то появляются, то исчезают. Надписи на хинди, диспетчеров нет, спросить не у кого, наконец вроде выяснил, сел. Двое нас – я и водитель. Но и он, проехав несколько метров, спрыгнул и исчез. Сзади уже сигналят, за руль сел другой, и все повторяется. В Сирпур я еду, куда вообще ни один