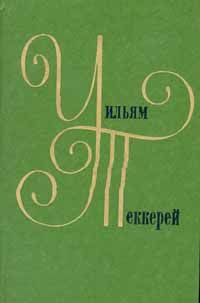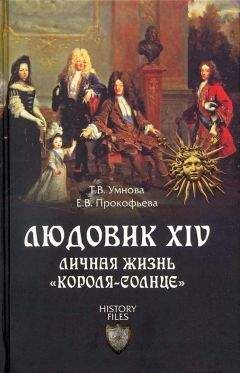Ознакомительная версия.
Мистер Брэндон. За миссис Ганн! Гип, гип, урра! (Пьет.)
Мистер Ганн. За миссис Ганн — благодарю вас, господа. Красивая женщина, мистер Брэндон! И сейчас еще, правда? А видели бы вы ее тогда, когда я на ней женился! Боже, как она была хороша — совершенство, сэр! Какая фигура!
Мистер Свигби. Плохую вы бы за себя не взяли, могу поручиться! Ха-ха-ха!
Мистер Ганн. Я вам когда-нибудь рассказывал, как я тогда подрался на дуэли с полковым лекарем? Нет? Так я расскажу. В те дни я был, понимаете, совсем молодым человеком; и когда я увидел ее в Браселсе (в "Брюсселе", как они произносят), я с одного взгляда влюбился до потери сознания — просто врезался по уши. Но что было делать? На дороге стоял другой — полковой лекарь, сэр, форменный дракон. "Трус красавицу не завоюет", — сказал я себе, и вот я отважился. Она избрала меня, а доктора начисто отставила. Однажды, ранним утром, я имел с ним встречу в брюссельском парке и держался, сэр, как мужчина. Когда дело было кончено, мой секундант, драгунский поручик, сказал мне: "Ганн, — говорит он, — много я видел мужчин под огнем — я сражался при Ватерлоо, говорит, и не один долгий день я скакал бок о бок с Веллингтоном; но — по хладнокровию я равного вам не видал никогда. Джентльмены, за герцога Веллингтона и британскую армию! (Джентльмены пьют.)
Мистер Брэндон. Вы убили доктора, сэр?
Мистер Ганн. Нет, зачем же? Я по-джентльменски: дуло вверх и палю в белый свет!
Мистер Брэндон. Ого! Примечательный выстрел. Так джентльмену и положено — метить в высший свет. Ну, а доктор как? Небось, натерпелся страху?
Мистер Свигби. Ха-ха-ха! В белый свет! Здорово!
Мистер Ганн (побагровев). Позвольте, сэр! Выражаюсь я, конечно, по-простецки. Но я никак не думал, что гость станет над этим смеяться здесь, за моим же столом!
Мистер Брэндон. Дорогой сэр! Заверяю вас и клянусь…
Мистер Ганн. Мне это безразлично, сэр. Я вам предложил все, что мог, и всемерно постарался почтить вас. Если вам угодно смеяться надо мною, смейтесь, сэр. Может быть, так оно принято в благородном обществе, но, честное слово, в нашей канпании так себя не ведут — верно, Джек? В нашей компании, пардоне муа, сэр.
Мистер Свигби. Джим! Джим! Ради бога! Мир и гармония за вечерним столом… Дружеское веселье… круговая чаша… Он ничего такого не имел в виду — разве вы имели в виду что-нибудь такое, мистер… как вас?
Мистер Брэндон. Ровно ничего, даю вам слово джентльмена!
Мистер Ганн. Если так, хорошо: вот вам моя рука! — И добросердечный Ганн постарался забыть оскорбление и продолжал беседу, как будто ничего не произошло; но он был уязвлен в самое чувствительное место, какое может задеть в человеке стоящий выше его, и не забыл — не мог забыть — Брэндону его шутку. В тот же вечер, в клубе, пьяный в лоск, он произнес не одну речь на этот предмет и неоднократно ударялся в слезы.
Удовольствие от званого обеда было вконец испорчено; и так как разговор пошел обрывистый и скучный, мы не станем его воспроизводить. Мистер Брэндон поспешил удалиться, но не отважился встретиться за чаем с дамами, которым Бекки, сменив, как видно, гнев на милость, подала этот подкрепляющий напиток.
ГЛАВА IV,
в которой мистер Фитч возвещает о своей любви, а мистер Брэндон
готовится к войне
Из блистательной залы, где миссис Ганн с такой широтой принимала своих гостей, знаменитый художник Андреа Фитч бежал в еще более бредовом состоянии духа, нежели то, в каком он пребывал обычно. Он поглядел в даль улицы: там было сумрачно и пустынно; шел сильный дождь, ветер играл на семиствольной свирели и дудел в дымовые трубы. "Люблю бурю, — сказал торжественно Фитч; и он завернулся в свой испанский плащ на самый правильный манер (плащ был таких чудовищных размеров, что его пола, когда художник закидывал ее через плечо, смахнула объявление о сдаче комнат с дверей дома напротив Ганнов). Люблю бурю и одиночество", — сказал он, раскуривая большую трубку, набитую ароматным "ороноко"; и так, во всеоружии, молодцевато сдвинув шляпу на длинных своих кудрях, он быстро зашагал по улице.
Андреа не любил курить, но все же завел трубку, видя в ней характерный признак профессии художника и живописную деталь костюма; равным образом он, не умея фехтовать, всегда возил с собою в путешествиях пару рапир; и, начисто лишенный музыкального слуха, всегда имел под рукой гитару. Без этих принадлежностей облик художника представляется незавершенным; а теперь он решил добавить к ним еще один непременный атрибут — возлюбленную. "Кто из великих художников не имел возлюбленной?" — думал он. Он давным-давно мечтал о той, кого он мог бы полюбить, к кому бы мог обращать свои стихи, — ибо он был привержен к стихотворству. Он сочинил сотни незаконченных поэм, обращаясь в них к Лейле, Химене, Аде — воображаемым красавицам, которых он воспевал в своих туманных стихах. С какой радостью оп заменил бы их всех подлинной очаровательницей, облеченной в плоть и кровь! Итак, он шагал в этот вечер по улицам — и сочувствие к бедняжке Каролине, пробужденное тираническим глумлением миссис Ганн над кроткой девушкой, привело его к решению, что отныне и вовек она будет возлюбленной его души. Мона Лиза и Форнарина, Леонардо и Рафаэль — он думал о них и клялся, что его Каролина прославится и будет жить в веках на его полотнах. Пока миссис Ганн ждала мужчин в гостиной и развлекала их беседой за чаем и, вистом; пока юная Каролина, не ведая о внушенной ею любви, тихо плакала в своей каморке на чердаке; пока в конторе мистер Брэндон услаждался тонким разговором Ганна и Свигби за вином и трубкой, — Андреа ходил по берегу океана; и, покуда не промок насквозь, уходился до самой пламенной любви к бедной, всеми гонимой Каролине, Читатель мог бы увидеть его (если бы ночь не была так темна и не было слишком уж мокро, чтобы разумный человек захотел выйти из дому ради такого зрелища), читатель мог бы увидеть, как он влез на прибрежную скалу и извлек спрятанный на груди медальон, в котором хранился перевязанный ленточкой локон. С минуту он смотрел на локон ж затем швырнул его прочь, в черный, кипящий далеко внизу прибой.
— Ничей локон, кроме тваво, Каролина, вовеки не будет покоиться на ентом сердце! — сказал он и, поцеловав пустой медальон, водворил его на место. Ветреный юноша, чей это локон он бросил в волны? Сколько раз Андреа под величайшим секретом показывал эту самую прядь то тому, то другому из собратьев по кисти и объявлял, что это — волосы одной прелестной испанки, которую он любит да безумия? Увы! Это было только измышлением его распаленного ума; каждый из его друзей носил на груди медальон с прядью волос, и Андреа, до сих пор еще не любивший, срезал сей бесценный залог с парика обворожительного манекена — с железными прутьями на шарнирах вместо рук и ног и картонной головой, стоявшего одно время в его студии. Я не думаю, чтобы художник почувствовал стыд, совершая этот поступок: обладая пламенным воображением, он и сам уверовал в то, что локон дан ему в залог прелестной испанкой, и он решился расстаться с ним, лишь уступая более сильному чувству.
Когда чувство определилось, молодой художник, промокнув до нитки, вернулся домой; потом ночь напролет читал Байрона; делал наброски и сжигал их;- писал стихи, обращенные к Каролине, и стирал их безжалостной рзинкой. Романтику положено не спать всю ночь и мерить шагами комнату; и вы могли бы увидеть не одно произведение Андреа Фитча с пометкой; "Полночь, 10 марта. А. Ф.", — и вокруг инициалов лихой завиток его росчерка. Он отнюдь не огорчился, когда за утренним завтраком дамы сказали ему, что он ужасно как бледен, — и ответил, прижав руку ко лбу и мрачно тряся головой, что не спал всю ночь. И тут он испустил глубокий вздох; а мисс Белла с мисс Линдой переглянулись, как у них было заведено, и захихикали. Он, повторяю, был рад, что его печаль замечена, и провел без сна еще две-три ночи; но его, разумеется, еще более порадовало, когда на четвертое утро мистер Брэндон резким, сердитым голосом крикнул Бекки, чтобы она передала от него поклон джентльмену на третьем этаже — поклон от мистера Брэндона — и сообщила ему, что он всю ночь не сомкнул глаз от топота над головой. "Черт возьми! Я сегодня же съеду, — решительно добавил второй этаж, — если мистер Фитч не перестанет так шуметь!"
Мистер Фитч достиг "всего и с этого дня стал тих, как мышка; ибо ему желательно было не только влюбиться, но еще дать всем и каждому уразуметь, что он влюбился, — а без этого что проку в la belle passion? [17]
Он взял теперь в обычай, где бы ни встречал он Каролину, за столом ли или в коридоре, выкатывать на нее большие свои глаза и испускать драматический стон. Блюда он оставлял нетронутыми, все только стонал, и вздыхал, и выкатывал глаза. Миссис Ганн со старшими дочерьми дивились такому кривлянью: они не допускали мысли, что мужчина может быть настолько глуп, чтобы влюбиться в Каролину. Когда же эта мысль все-таки пришла им в голову, она породила бурный смех и восторг; и дамы уже не упускали случая подтрунить над Каролиной в своей изящной манере. Ганн тоже любил подшутить (за два десятка лет немало милых шуток сыграл этот почтенный господин в залах избранных рестораций) и стал называть бедную Каролину "миссис Ф.", и приговаривал, что вместо "Карри-пари", как он называл ее раньше, он впредь станет именовать ее "Карри в варе", — и сам смеялся над своим роскошным каламбуром и сочинил еще много других все в том же роде, каждый раз вгоняя Каролину в краску.
Ознакомительная версия.