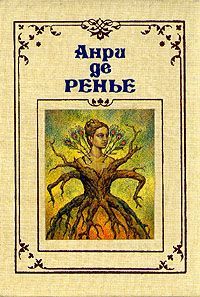На молотке корчился бюст женщины. Я узнал ее. Эта фигура показалась мне каким-то подобием моего прошлого, затвердевшим и уменьшенным в своем металлическом образе. Это было то самое существо, которое когда-то в трагический вечер, живое и теплое, кончалось в моих тисках; нагая грудь вздымалась тем же вздохом; скорбное и неистовое лицо выражало страдание, но рот был закрыт и глаза сомкнуты в окончательном и полном покое. Равнодушной рукой я приподнял холодный торс из потертого металла. Молоток зазвучал, и я вошел навсегда в мое жилище.
Вот почему я умру в доме, в котором родился. Я живу здесь спокойно со своими мыслями; я сам совершил над собой очистительное заклятие; то, что я убил, исходило от меня и звало меня извне. Нужно было поцеловать жизнь в губы и схватить ее за горло, чтобы стать свободным от ее призраков.
Я ответил на зов моей судьбы; она перестала звать меня. Теперь я больше не смотрю в окна, я не беру в руки шпаг; я не слушаю больше раковин; я больше ничего в них не услышу. Моя глухота полна тайными голосами моего молчания. В сумерки я гуляю в саду вдоль подстриженных буксов. Фавн из зеленого камня, который давил виноградную гроздь из порфира, кажется, уснул от опьянения: он упал. Кентавр, попиравший мех, также разбился: круп его разрушился, но остался улыбающийся человек; и кажется, что четырехликая бронзовая статуя, поднимающаяся на пьедестале посреди бассейна, прислушивается теперь только к себе самой.
Прохожий, прими из рук моих эту чашу. Хрусталь ее так прозрачен, что, кажется, сама она создана из воды, которую содержит. Отпей из нее, торопливо или медленно, смотря по твоей жажде. День был знойным, а сумерки так теплы, что, можно подумать, день еще не умер. Каким путем пришел ты? Идешь ли ты от берегов реки, от болот соленых или с моря? Топтал ли ты тростники, увязал в тине, или попирал мягкие пески? Тебе пришлось долго итти: вот почему ты и встречаешь меня. Я страшусь света дня. Только вечером путники встречают меня. Я страшусь дня. Одежда моя падает уже менее стройными складками вдоль исхудавшего тела; если волосы мои еще кажутся тебе золотыми и пышными, это их украсила осень. От притираний лицо мое стало похожим на перезрелый плод; улыбка завершается морщиной. Не смотри мне в лицо; отвернись и пей. Я замолчу; ты будешь слушать, как журчит родник. Если влага, которую я тебе подношу, освежит тебя — благодари источник. Посиди мгновение на его закраине и вспомни о нимфах, которые в нем обитали. Не подумай, что я одна из них, и узнай, кем я была. Рассказ мой не пустая сказка; ты узнаешь одну из тайн счастья и, быть может, истинный смысл любви. Слушай же меня, не подымая глаз, утомленный путник, и когда я окончу, ты не увидишь меня более. Сумерки спускаются быстро; я удалюсь, когда они сгустятся, а ты можешь продолжать путь при свете звезд, думая о нашей встрече у лесного источника.
Перелетные птицы проносились всякий год над городом, где я жила. Через несколько дней после их очередного отлета (они, вероятно, уже унеслись за море) тихо умер любивший меня друг. Терпеливая улыбка не покидала его до самой смерти. Печаль разлилась на дорогом лице. Доброе притворство его не могло обмануть за гробом, и, увы, я поняла, что он не был счастлив.
Мы полюбили друг друга не сразу. Дома наши стояли один против другого. Много раз проходил он под моими окнами, и, так как я была красива, я смотрела на него. Однажды, не видя меня больше, он вошел в дом. Я пряла в маленьком внутреннем дворике. Жужжанье прялки сливалось с воркованьем голубей на крыше; изредка падало вниз перышко; надувшиеся облака над нами тянулись на синем и горячем квадрате неба. Он вошел и сел возле меня; он стал приходить каждый день. Я отдала ему всю душу. Он это знал, и мы сказали друг другу об этом. Он завладел всеми ключами моих мыслей, и мы жили в совершенном взаимном понимании. Он был моим духовным наставником, но губы наши, сообщавшие друг другу все, не соединялись никогда. И все же уста его бледнели постепенно; улыбка подернулась грустью, но сохранила свою нежность, и если бы она осталась на лице его и после смерти, я никогда не узнала бы о непоправимом и безумном моем преступлении. Увы — я поняла это слишком поздно! — я терзала его ожидание напрасными дарами. Любовь похожа на самое себя, и тождество наших чувств убивало их творящую силу. Лишь оттиск лица сообщил бы отличие металлу, ненужными монетами которого мы в слепоте обменивались. Что до того, что мысли наши были согласны? И разве есть что либо в уме мужчины, чего не было бы в сердце женщины? О, зачем отказалась я от его ласк, зачем не оживила своим дыханием таинственной статуи, изваянной, в потемках, нашей двойной любовью! О, как надеялся он на это в тайном вожделеньи, в тишине своего молчаливого желанья, а я не понимала немой мольбы его губ, прикоснувшихся к моим только мертвыми, мертвыми благодаря мне, и навсегда!
Я должна была отдать свой рот его устам, отдать тело мое, волосы и ногти пальцев! Он насладился бы свежестью моей кожи и благоуханием моей красоты. Нагая, я населила бы его сны, после того как разделила бы с ним ложе, и оставила бы в его воспоминаньи, как на песке, отпечаток моего тела.
О, пески, пески, пески Стикса, черные пески неновых отмелей! Скоро вы укроете мой сон, когда я спущусь к вашим берегам, роковой и подземный ропот которых я уже слышу у себя под ногами.
Жизнь моя завершается; я прожила ее день за днем в мерзости, желая искупить свою вину. Чтобы покарать себя за невольный свой и бессмысленный отказ, я дарила свое тело грубым, рукам прохожих. Всякий, кого пронзала при виде меня молния желанья, мог свободно утешить его, благодаря моей покорности. Их было много, вкусивших от моего покаянного дара. Среди них бывали отяжелевшие от вина, мешавшие поцелуи с пьяною икотой; иные, изголодавшиеся от поста, насыщались плодом моих грудей. Одни обнимали меня мимоходом, и порыве прихоти, другие томили упорным постоянством. Я удовлетворяла торопливость срасти и неистовство вожделения. Светлая заря струилась по моему нагому телу, и солнце согревало сухую кожу.
Теперь наступили сумерки; прохожие не оборачиваются больше. Я покинула города, и никто не удержал меня за полу изношенного плаща. Я бежала из города в этот уединенный лес. Он обширен и тих; дороги сходятся у этого родника! Ясная вода его бежит непрерывно. Когда кто-нибудь приближается, я наклоняюсь и подаю жаждущему в этой хрустальной чаше то, чем некогда утолила бы его желанье, нежданный сладостный глоток, каким я старалась быть для всякого, кто алкал моей щедрой свежести.
Вот почему, прохожий, ты встречаешь меня здесь. Я заговорила с тобой, чтоб рассказать тебе об ошибке печальной жизни.
Мрак сгущается; продолжай путь, и когда ты постучишься палкой в дверь той, что тебя любит, когда, развязав сандалии, ты поведаешь ей о приключениях твоего странствования и о необычайной встрече, — вместо того, чтобы выслушивать ее любопытные или заботливые вопросы, не отвечая закрой ей рот долгим поцелуем.
Слова излишни; я умолкаю; прощай. Любовь — божество немое, и нет у него статуй иных, чем форма нашего желания.