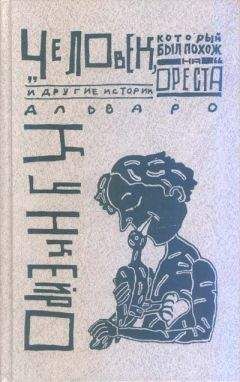— О, музыка!
В школе для взрослых учитель истории рассказывает, как галлы изобрели бочку.
— Это наши предки! Изобретение бочки позволило выдерживать вина.
И он показал ученикам репродукцию барельефа II века, на котором была изображена большая лодка, груженная бочками; предполагается, что она идет вниз по реке, у кормила — мужчина с густой бородой.
— Возможно, это наша река! Наша Рона! Вглядитесь в рулевого! Разве и теперь в дни ярмарки не встретишь сотню таких же лиц?
Женщина, торговавшая кружевами и подшивками, разговаривала со стариком пасечником. Вокруг пузатых жестяных банок с медом вились мухи. Торговец чесноком разложил связки своего товара на каменной скамье и обмахивал лицо соломенной шляпой.
По улице Храмовников шел домой гарнизонный капитан. Он устал, наблюдая, как муштруют новобранцев. Остановился и поздоровался с помощником судьи, который в перерыве между допросами и опросами шел в рюмочную выпить оршада со льдом. Промчалась ватага мальчишек, пинавших тряпочный мяч.
— Люди будущего! — сказал капитан, он любил повторять полюбившиеся ему словечки из речей местных ораторов.
От реки поднимались две женщины, каждая несла на голове таз с выстиранным бельем. Некая вдова пудрилась рисовой пудрой, собираясь в церковь, — шли молебны в честь Святого Гоара. Портной на пороге своей мастерской растягивал перед заказчиком отрез материи, расхваливая ткань и расцветку. В тот день стояла жара. В иные дни случались и холода, и дожди, и ветра. Церковный колокол по прозванью «Женевьева» звонил по случаю родов, крестин, последнего часа умирающего, смерти. Когда затихал последний удар, люди ждали условного знака. Еще два удара.
— Женщина!
Семья Малатеста[19] совершала бдение у тела герцогини. Кто-то вспомнил, как усопшая в пять часов вечера заявляла, что уже поздно, и удалялась в свою спальню, огромную четырехугольную комнату, окна которой постоянно держали закрытыми, Чтобы почтить волю покойницы, погасили толстенные свечи, горевшие в изголовье и в ногах. Эти свечи переходили из поколения в поколение и изготовлены были в XV веке из натурального пчелиного воска, в который тут и там были вплавлены крупинки ладана; когда пламя добиралось до них, они вспыхивали и наполняли дом сладким запахом. Запах этот держался очень долго. Кто-нибудь из членов семьи Малатеста втягивал носом воздух и говорил:
— Вот уже двадцать лет прошло с похорон тети Северины, а в доме все еще пахнет ладаном!
Бдение совершалось в зале, специально предназначенном для воздания последних почестей, члены семьи молча сидели на скамьях, откинувшись к стенам, увешанным фламандскими коврами, на которых были изображены сцены народных празднеств.
— Наверх нельзя, — сказала ключница торговцу чесноком.
— Но она всегда покупала у меня чеснок, любила вот этот саморский сорт, с фиолетовой кожицей на концах долек!
— Сегодня наверх пускают только господ, желающих выразить соболезнование!
Художник обводил пурпурной краской буквы на ленте, которой был увит траурный венок: «От семейства Малатеста Высокородной, Благороднейшей и Знатнейшей Госпоже Изотте».
— Где это видано, чтобы за гроб платили наперед? — спорила ключница с похоронным агентом, хромым стариком с багровым родимым пятном от правого уха до подбородка. — Все на свете знают, что они разорены.
— У них есть драгоценности.
Торговец чесноком подошел к художнику.
— А нельзя ли вплести в венок вот эти связки? Она очень любила мой чеснок, он саморского сорта, с фиолетовой кромкой…
— Чеснок розе не пара!
Торговец нежно поглаживал связки. Где-то по соседству холодный сапожник приколачивал подметки и пел. Пели и швеи от Капитула, клавшие стежки на зимние панталоны для церковнослужителей — на шерстяной подкладке, с завязками на икрах.
— Да замолчите вы, в доме покойник! — крикнула им ключница, выглянув на улицу.
— Какой покойник?
Все жители города думали, что во дворце никто не живет. Года два назад обвалилась часть крыши. В прошлом году открылась вдруг створка окна, хлопала на ветру, и все стекла повылетели.
Со времен Юлия Цезаря жители города встречали новый день в таком же количестве, в каком отходили ко сну. Так и в тот теплый августовский вечер легли спать все, кто в то время жил в городе. И ночью все зависело от того, кому что снилось. Перемешивались прожитые годы, страдания, песни, рождения и смерти. Призраки сами находили себе земную оболочку, а живые люди могли смешиваться с туманом, который поднимался с реки и лизал фасады домов. Члены семейства Малатеста откидывались на висевшие по стенам ковры, углублялись в них, прятались за деревьями, под которыми веселились фламандцы, и, если какой-нибудь из них попадал в прореху на прохудившемся старом ковре, он тоже расползался на отдельные нити и умирал.
— Тебя не было дома, Паулос. Поздно вернулся?
— Очень поздно, Мария! Пришлось дожидаться, пока все светила небесные станут на свои места, иначе я не смог бы определить свой путь по Полярной звезде. Один человек предложил мне своего коня, который знает дорогу домой и может сам вернуться в свою страну от нашего моста. Но посланцы короля сказали мне от его имени, что я могу возвратиться на древнем буланом со звездочкой на лбу, и показали его изображение на старинном эстампе. Тот, кто принес эстамп, отошел в глубь двора, произнес имя коня по-латыни, и конь сошел с холста. Я сел на него, мы понеслись, как ветер. Приехав домой, я произнес тайные слова — меня им научили, но я никому не могу передать их, не то они потеряют всякую силу, — и конь вернулся в картину.
И Паулос показал Марии этот эстамп — там действительно был изображен буланый конь, которого держал под уздцы негр в цветастом жилете и розовых шароварах.
— Значит, в один прекрасный день ты куда-нибудь ускачешь на нем!
— Нет, я уж никогда на него не сяду! Снесу картину в мастерскую на площади, велю взять ее в рамку и набить на доску, чтобы конь не вздумал как-нибудь сойти с холста по своей воле. А будучи приколочен к доске, он на дорогу не выбежит.
— А кто на нем ездил до тебя?
— В пути я спросил его об этом, но он не мог вспомнить точно. Сказал, некий Артур[20], как-то возвращаясь с битвы, он пририсовал ему звездочку на лбу, раньше у него ее не было. Добрый был король. Обмакивал в мед кусок хлеба и подносил его ко рту какого-нибудь нищего, сидящего у придорожной канавы. При этом рука его вытягивалась и достигала в длину двух-трех вар, если это требовалось. Вот и все, что помнил конь кроме истории со звездочкой.
— Ты говорил с какой-нибудь женщиной?
— Страна, где я побывал, по форме похожа на ладонь левой руки. Я приехал в нее с того конца, который мы назвали бы указательным пальцем, а на карте это означает — с севера. На третьем бугорке указательного пальца растет лес — береза и ольха, — а у дороги бьет из земли родник. Какая-то женщина наливала воду в бадью, на медных обручах сверкали лучи восходящего солнца. Туман поднялся, и впереди открылись взору просторные поля. Женщина отодвинула бадью, чтобы я мог напиться, подставив рот под тоненькую струйку, выходившую из одной только трубы, остальные две воды не давали, как всегда бывает в разгаре лета.
— Молодая?
— Я думаю, лет тридцати. Высокая, очень красивая. Она ждала ребенка. Может, нынче ночью и родила. Или сейчас рожает. Она сказала мне, что я могу оставаться в тех краях, ибо, как только она родит, вода потечет обильно из всех труб, так всегда бывает, когда в окрестностях родника рождается ребенок. А началось это после того, как в тех краях пожил отшельник по имени Фахильдо. Стало быть, и летнее усыхание родниковых вод было там не таким, как в иных местах, и даже в сентябре рождение нового живого существа прорывало все затворы. Эта женщина рассказала мне, как лет пятнадцать тому назад появились английские туристы, прослышали про родник, и одна из женщин, которая была уже на пятом месяце, заявила, что останется в местной гостинице, пока не родит, лишь бы оживить источник. Когда наступил час родов, ее положили на матрас под навесом из голубого одеяла, наброшенного на переплетение виноградных лоз. Как только ребенок появился на свет, из всех трех труб хлынула вода.
— Мальчик или девочка?
— Девочка! Судя по тому, что рассказала мне женщина с бадьей у родника, а потом еще добавил и музыкант с лютней, которого я повстречал в пути, я знаю, о ком идет речь, хотя имя и запамятовал. Мать этой девочки, та, что осталась рожать у источника, была гречанка и вдова; продав в Лондоне доставшиеся ей по наследству драгоценности, чтобы хватило денег на дорогу и на покупку дома с портиком на юг и садом, она вернулась на родину. А поступила она так отчасти потому, что девочка родилась слепой.