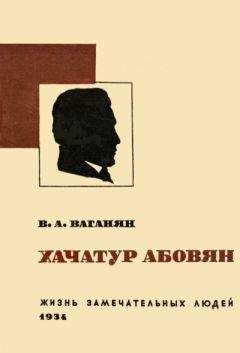Заходил ли сирота в их дом, он расстилал скатерть, открывал кошелек; если у кого-нибудь не было плуга, он отдавал свой, не было быка или подпаска, — посылал своих. Если у кого-нибудь недоставало денег, чтобы нанять работников обрезать лозы, вскопать или закопать, или же откопать снова по весне, он сам собирал деревенских парней и шел без зова, без просьбы, делал там дело, и хозяин, придя в свой сад, изумлялся, молил о ниспослании ему счастья в жизни, — ибо, если в нашей стране не закопать вовремя виноградные лозы, то они все погибнут. Многие отцы и матери завидовали его родителям, видя у них такое доброе дитя. Где случалось какое-нибудь сборище или расстилалась скатерть, он всегда был впереди других, веселил и развлекал.
Отменный рост его, темные-претемные очи, брови, словно пером расчерченные, лицо красоты бесподобной, сладкая его речь, приятный голос, широкие плечи, высокое чело и золотистые кудри всякого сводили с ума: кто посмотрит, — изумится, не может наглядеться.
Когда брал он в руки саз, в тог же миг камни, деревья — все начинало дышать, одушевляться, говорить.
Правда, от солнца лицо его загорело, утратило свой нежный цвет, но когда он смеялся, когда раскрывал глаза и подымал брови, казалось, распускается роза, от лица его исходило сияние.
Пуля из его ружья никогда не знала промаха. Сердце у него было столь доброе, что он понапрасну не убил бы птицы, не задавил бы и муравья, но разбойники-враги день и ночь притесняли сельчан, и если случалось, что тюрки забирались в сад, чтобы убить его или его соседа, тогда где бы он ни был, хоть на самом небе, являлся в ту же минуту; стоило позвать его с другого конца села, он мгновенно был тут как тут, и если словами не удавалось уладить дело, тогда показывал свое уменье владеть шашкой, ружьем и руками, и враг смирялся, как побитая кошка, или же попадал в давильный чан, где его и хоронили, — и концы в воду, ибо тысячу раз было испытано и замечено, что пока тюрка не побьешь, он тебе другом не станет.
Такая была у него сила, что он хватал взрослого мужчину за пояс и подымал, как цыпленка, выше головы: повертит, бывало, и вновь опустит. Когда садился на коня, то стоило ему поднять руку, как лев-конь сам сгибался и подставлял спину. Пять человек могли на него напасть, а все не скрутили бы могучих его рук. Одним ударом шашки рассекал он шею буйволу или быку, да так, что кончик лезвия врезался в землю. Часто одной рукоятью шашки отгонял он прочь двадцать разбойников. У тюрок при одном его имени все печенки отрывались. Возникала ли драка, сколь часто при одном его голосе дерущиеся разлетались, как мухи, рассыпались в разные стороны, с глаз долой!
Ему дали прозвище «аслан баласи» (сын льва). Если б пустить его к разбойникам и грабителям, даже связанного по рукам, и то остался бы он цел и невредим.
Но при таких удивительных качествах все же с детьми он бывал ребенком, со взрослыми — взрослым.
Он так стоял перед ханом или шахом, так держал им ответ, словно рожден был царским сыном. Никогда не исчезали с его лица смех и радость, так чисто было его сердце, так безмятежна совесть, так праведна душа. Каждое слово его было, что бесценный алмаз.
Многие матери мечтали взять его в зятья и окружить заботой. Молодые девушки, услыхав голос или одно даже имя его, готовы были душу ему отдать. Часто, когда, идя за водою или стоя на крыше, видели они шедшего мимо Агаси, думали, что это проходит ангел и замирали, очарованные. Слыша его голос, видя стройный его стан, все загорались, теряли рассудок, готовы были душу свою вынуть и ему отдать. Когда пели «Джап гюлум», ворожили или гадали, он один бывал у всех на уме. Его одного видели во сне и просыпались, вздыхая от любви к нему.
Ежели какой-нибудь из девушек перепадало из его рук яблоко или роза, она хранила их за пазухой, если даже они уже гнили или засыхали, — засыпая, клала на подушку, просыпаясь, нюхала, прижимала к груди и к лицу. Когда он бывал где-нибудь в гостях, то с тысячи мест, сквозь щель в стене, с порога, из-за угла, очи девичьи только на него и глядели. Не каждая ли желала тогда, чтобы рука Агаси коснулась ее руки, дыхание его слилось с ее дыханием, либо шашка его вонзилась ей в сердце, чтоб поскорей стала она ему жертвой, чтоб Агаси похоронил ее, чтоб сердце Агаси о ней болело, чтоб слезы Агаси над ней проливались, но увы! — Агаси давно уже исполнил свое заветное желание, а их мечтам суждено было при них оставаться. Все село такою пылало к нему любовью, что даже песню о нем сложили — сами пели и детей учили:
Джан-Агаси, ты наш венец,
Глаз от тебя не отвести.
Свет обойди с конца в конец —
Нигде такого не найти!
Мы рады жизнь тебе отдать,
Тебя лелеять, ангел наш,
Мы будем и в гробах взывать,
Тебе всю душу предавать.
Ты небу свет и блеск даешь,
Цветам — их душу, аромат.
И если мимо ты идешь,
Все горы кланяться спешат.
Твой саз услышав, соловей
И роза плачут, полюбя,
И бьют себя по голове,—
Им горе, если нет тебя.
Пока мы живы, свет ты наш,
Над нами кров всечасно твой,
И мертвым ты покой нам дашь,
К нам на могилу став ногой.
Украсить дом таким сынком
Завидно было б и царям,
И в прах при имени твоем
Свирепый враг сотрется сам.
В лучах лицо твое светло,
Ты солнцу мил, наш дорогой,
И облака, раскрыв крыло,
Твоей любуются красой.
Из дома ли выходишь ты,
Все очарованы кругом,
А если речь заводишь ты,—
Все шепчут, за тебя умрем!
Пером писалась бровь твоя,
Чинаре твой подобен стан
Все в восхищенье от тебя
Сюда, сюда, скорее, джан!
Однако, что бы ни делал Агаси, дома он вел себя как настоящая молодица. Правда, на сей раз малость разошелся, — но и то по случаю масленицы
Ключи от винного погреба, а также и от кладовой были в кармане у матери. А она все упорствовала, все упрямилась: пока не кончится церковная служба, хоть помри, капли воды не даст. Молодая его жена уж и так, и эдак старалась, — но что могла она поделать? От нее, бедняжки, ничего не зависело.
Неумолимая свекровь ни на кого не смотрела, никого не слушала. Все собственными руками приготовила: водку, вино, курицу, яйца, баранину, — но пока не кончилась служба в церкви, горе тому, кто, пройдя мимо, до чего-нибудь пальцем дотронется!
Навели порядок, и в саку разостлали ковер, затопили бухарик, подмели во дворе и в доме: сегодня приглашены были сюда сельские старейшины, — каждый по очереди угощал других день за днем всю масленицу — так уж было заведено. Агаси поставил человека на крышу, и тот давно следил, когда же наконец выйдут из церкви. Как только слуга завидел белые чадры женщин, он поспешно вбежал в дом и обрадовал молодого хозяина.
Но мать стояла на своем, поступила-таки по-своему: не дала Агаси даже пошевельнуться, пока бабушка Сарахатун[37] не вернулась домой, не отложила в сторону свой псалтырь и чадру, не сказала всем «Господи, помилуй» и не оделила всех просвирой.
— Да не прогневается на вас бог, — вы мне сегодня всю душу вымотали, замучили вконец, — пробормотал Агаси, положил в рот кусочек просвирки и, не дожидаясь прихода гостей, выскочил из комнаты и исчез за порогом.
Добрый конь, видно, за честь себе почитал держать на спине такого наездника. Не успел Агаси коснуться ногою стремени, как конь согнулся и начал игриво мотать головой, бить копытами землю, высекать искры подковами, ржать, фыркать — и так сорвался с места, словно крылья у него отрасли.
Товарищи Агаси тоже собрались вместе и все приготовили: ждали своего старшого, однако начинать пир не осмеливались, видя, что почтенные старейшины по выходе из церкви все еще стоят посреди села, беседуют, толкуют каждый о своей злобе дневной.
— Никак-то не уберутся эти старцы беззубые, не дают нам старикашки успокоиться и за свой пир взяться! — сказал один, в сердцах скрежеща зубами. — Сами, ишь, одряхлели, молодость свою забыли, вот и не хотят того, чтоб и мы пожили в свое удовольствие!.
Но староста Оганес, человек опытный, искушенный, с бородой и волосами, поседевшими от тысячи всяких злоключений, тысячу раз побывавший во всяких переделках, стоял степенно, гордо и наказывал сельскому рассыльному, что буде появится какой тюрк, он бы его свел куда-нибудь и угостил, да чтобы за той собакой хорошенько присматривал, — не укусила бы кого. Потом, забрав с собой попа, все потихоньку двинулись к его дому.
Как только они удалились, так для наших молодцов и звезда блеснула.
2— Старейшины идут! Эй, вы! Отойди, посторонись, дай дорогу!.. — так закричал рассыльный Котан, слепой на один глаз и до того криворожий, что одна половина бороды, спутавшись, торчала у него на лице, а другая прилипла к шее до челюсти, да там и присохла, — вот до чего много говорил он и орал на своем веку.