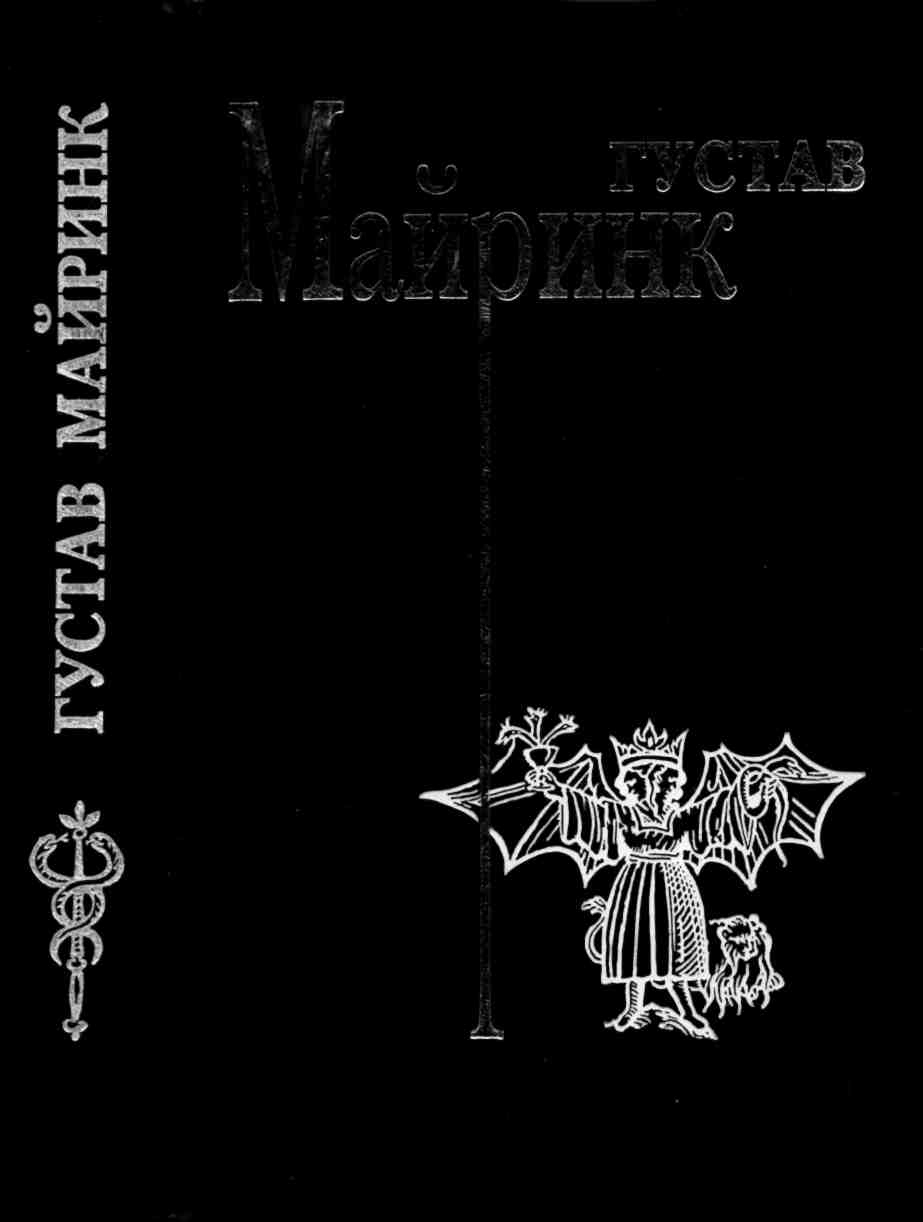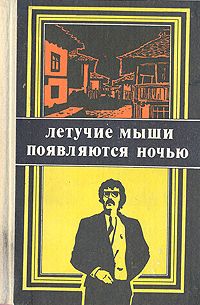и тело его мощам христианских святых уподобится.
Тебе же, сыне мой, надлежит разрешиться от тела!
И помни, таинство сие осуществимо токмо чрез кипение «вод», каковой режим поддерживается чрез «огонь»; так и таким образом вершится священнодействие, ибо у всякого процесса, равно как и у воскресения в духе, свои законы.
И прежде чем попрощаемся мы с тобой на сей раз, ты, сыне мой, испытаешь на себе, что есть сошествие Духа.
Слышу, как мой прапредок закрывает книгу.
Встает и вновь, подобно наугольнику, возлагает руку мне на горло.
Такое чувство, словно обрушился ледяной водопад, — дыхание захватило от потусторонней стужи, хлынувшей свирепым сквозняком через все мое тело сверху донизу, до самых ступней.
— Теперь, сыне мой, крепись, ибо, когда воспылает огонь и воды зачнут закипать, померкнет сознание твое, сметенное бешеным ураганом горячки, — говорит патриарх, — а потому вонми со вниманием, пока уши твои еще слышать способны: что бы ни содеял я с тобой, делаешь ты сам, поелику я есмь ты, а ты еси я.
Ни единому смертному в мире сем не дано творить с тобой то, что я сотворю; даже и ты не исключение, доколе один пребываешь, ибо без меня ты лишь пол «Я», такожде и я без тебя — пол «Я», не более.
Полнота же достигается токмо сложением двух половинок — вот истинный ключ таинства совершенства, абсолютно недоступный оку завидущему и лапам загребущим человекообразных недомерков.
Я почти вижу, как старец медленно прижал к ладони свой большой палец, а потом трижды слева направо быстро полоснул по моей шее указательным, словно стремясь перерезать мне горло.
Страшный, невыносимо пронзительный и высокий звук «И» подобно раскаленному добела клинку вошел в меня, прободая бренную плоть мою до мозга костей.
На миг привиделись мне огненные языки, которые исторгало мое обреченное тело.
— Иииии помни: долог и мучителен путь испытаний, но все — все! — что бы ни содеял ты сам и что бы ни содеяли над тобой, не оставлено будет втуне, ибо многое претерпеть надобно разрешения
тела ради! — еще успеваю услышать я голос основателя нашего рода Христофера, запредельным эхом доносящийся откуда-то из-под земли.
В следующее мгновение неистовое пламя горячки испепелило последние остатки моего агонизирующего сознания.
Уже встаю, даже пытаюсь ходить по комнате и, хотя колени еще подгибаются, духом не падаю, ибо чувствую, как силы мои с каждым часом прибывают.
Снедаемый тоскою по Офелии, я только и думаю, как бы поскорее доковылять до лестничной площадки и, приникнув к окну, замереть в надежде поймать хотя бы один-единственный взгляд дорогих моему сердцу глаз.
Оказывается, она навещала меня, сидела у моей постели, когда я метался в горячечном бреду, и этот букет роз от нее...
Так сказал отец, и я вижу по нему, что он обо всем догадался; а может, она сама призналась ему?
Спросить не решаюсь, да и он как будто тоже избегает касаться этой темы.
Часами, подобно заботливой сиделке, просиживает барон рядом со мной, следя за выражением моих глаз, и стоит ему прочесть в них какое-нибудь желание, как он тут же с такой готовностью бросается его исполнять, что у меня от стыда сердце разрывается на части: ведь, сам того не ведая, он ухаживает за преступником, человеком, предавшим его...
О, как бы мне хотелось, чтобы все это: и актер, и злосчастный вексель, и поддельная подпись — оказалось лихорадочным бредом!..
Но, увы, сейчас, когда мое сознание более или менее прояснилось, слишком хорошо понимаю я, что это не бред. Однако должна же быть какая-то причина! Что, какие обстоятельства толкнули меня на преступление? Нет, не помню, не представляю, ни малейшего намека хоть на какую-то мотивацию — все начисто стерлось из памяти.
Даже мысли мои отказываются приближаться к страшному провалу и, отступая, оставляют меня один на один с ужасным сознанием неизбежного возмездия... Да, да, расплатиться за содеянное придется... Проще всего было бы выкупить проклятый вексель, и дело с концом, но для этого нужны деньги, много денег, целая куча денег...
Холодный пот прошибает меня: заработать такую сумму здесь, в нашем маленьком городишке?.. Нет, об этом нечего и думать!
Если только в столице... А что, это мысль! По крайней мере, меня там никто не знает... Наймусь в услужение к какому-нибудь толстосуму! Да я бы работал на него как раб, не зная отдыха ни днем, ни ночью!..
Но сначала надо убедить отца, чтобы он отпустил меня учиться в столицу...
А ему попробуй объясни эту мою невесть откуда взявшуюся жажду знаний! Так он меня и послушает! Это он-то, который при каждом удобном случае выказывает свою неприязнь к книжной мертвой науке, противопоставляя ее знанию живому, непосредственному, почерпнутому из самой жизни?! Дело осложняется еще и тем, что у меня нет даже самого элементарного начального образования или хотя бы бумажки какой-нибудь, свидетельствующей об окончании школы...
Итак, все это вздор, напрасные мечты!..
И тут же вспоминаю, что нам с Офелией придется расстаться на долгие-долгие годы, а возможно, и навсегда, — и муки мои удваиваются.
При одной только мысли о неизбежной разлуке лихорадочный озноб пробегает по моему телу и гигантские валы вновь вздымаются до небес, грозя меня низвергнуть в черную бушующую бездну...
Добрых две недели провалялся я в постели... Розы, подаренные Офелией, успели увясть — грустные, поникшие, стоят они в своей вазе, вселяя в меня чувство какой-то безотчетной тревоги. Что с ней, почему не приходит?.. А если она уехала?.. Ладони становятся влажными, глухое отчаянье перехватывает горло... Так оно и есть, эти цветы — прощальный подарок!
Отец, конечно, не мог не заметить моих страданий, но молчит, не подает виду, даже не спросит ни о чем. Неужели ему что-то известно и он просто не считает нужным мне об этом сообщить?
О, если бы я мог открыть ему свою душу, и признаться, и рассказать все-все как на духу! Нет, ни в коем случае, этого делать нельзя, и дело тут не во мне, сам бы я пошел на все что угодно, лишь бы искупить свою вину, меня не остановила бы даже самая страшная кара — изгнание из отчего дома, но отец, его сердце; оно не выдержит такого удара: еще бы, обнаружить вдруг в своем единственном сыне, обретенном после долгих лет разлуки благодаря счастливому вмешательству самой судьбы,
гнусного негодяя, способного без зазрения совести обворовать собственного родителя!.. Нет-нет, только не это!
По