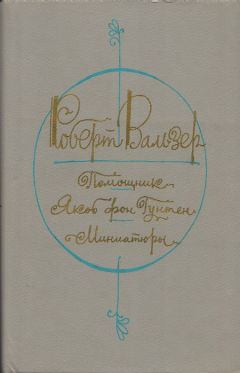Это было вечером. Улица представлялась мне чем-то феноменальным. Ежедневно тысячи людей проходят здесь. Как будто нет других мест. Рано утром все они бодры, вечером утомлены. И в который уж раз они ничего не достигают. Одна работа наваливается на другую, а трудолюбие часто расходуется зря.
Вот так я шел и вдруг встретился взглядом с чьим-то кучером. Я тут же вскочил в омнибус, проехал немного, спрыгнул с подножки, зашел в ресторан перекусить и снова вышел на улицу.
Она текла и бежала очень размеренно. Во всем была дымка, была надежда. Знание людей разумелось само собой. Каждый о каждом сразу мог узнать почти все, но духовная жизнь оставалась тайной. Душа обновляется непрерывно.
Колеса скрипели, голоса становились громче, и тем не менее вокруг было странно тихо.
Я хотел с кем-нибудь поговорить, но не мог улучить момент. Хотел обрести точку опоры, но не мог найти ее. Посреди безостановочного движения вперед мне захотелось вдруг тихо постоять. Множества и быстроты было слишком много, и двигалось все слишком быстро. Каждый избегал каждого. Поток несся, точно прорвав плотину, и устремился вперед, а там, дальше, растворялся в небытии. Все было призрачно, и я тоже.
И вдруг посреди этой гонки и спешки я увидел нечто неимоверно медлительное и сказал себе: это нагромождение совокупностей ничего не хочет и ничего не делает. Они переплетаются между собой, не касаясь друг друга, они словно взаперти во власти темных сил, но та власть, которой они облечены сами, сковывает их тела и души.
Глаза проходившей мимо женщины говорили: «Идем со мной. Уйди от этой сутолоки, брось это разнообразие, останься с той единственной, что сделает тебя сильным. Если ты будешь мне верен, ты станешь богатым. В толпе ты беден». Я уж хотел было внять этому зову, но людской водоворот унес меня прочь. Улица была слишком завлекательна.
Потом я вышел в поле, где стояла тишина. Совсем близко от меня промчался поезд с красными окнами. Издалека доносился шум, едва слышные раскаты грома — городской транспорт.
Я пошел вдоль леса, бормоча себе под нос стихи Брентано.[17] Сквозь ветви смотрела луна.
Внезапно неподалеку я заметил человека, он стоял неподвижно и, казалось, подкарауливал меня. Я обошел его стороной, стараясь не терять из виду, что его очень раздосадовало, потому что он крикнул:
— Да подойди же и взгляни на меня хорошенько. Я не то, что ты думаешь.
Я подошел к нему. Он был как все, только выглядел странно, и ничего более. И тогда я опять вернулся туда, где свет, где улица.
Листок из дневника (III)
© Перевод Е. Вильмонт
С холодным возмущением, которое буквально сотрясает, а отчасти и смешит меня, но, впрочем, вполне меня устраивает, ибо свидетельствует о моей моральной высоте, я заявляю, что в маленькой европейской стране на военные цели ежегодно расходуется восемьдесят миллионов. До чего же жаль такую уйму денег! И разве не обязан каждый гуманист сожалеть о подобном явлении? С другой стороны, такие громадные расходы кажутся необходимостью, но, вероятно, сплошь и рядом выясняется, что необходимость эта мнимая, что люди просто поддались на обман? Я лично считаю, что государствам пора начать выказывать друг другу больше доверия. Государство все равно что человек, и оно может сказать себе — чрезмерным недоверием люди унижают себя. Точно то же самое можно отнести и к общинам, союзам, обществам. Сегодня все европейские страны унижены друг перед другом. И, на мой взгляд, это следует предать гласности. А теперь немного о другом. Мне вдруг пришло в голову, что мы слишком хорошо разбираемся в искусстве и слишком плохо в жизни. Отсюда возникает несоразмерность. Жизнь по-прежнему остается суровой, тогда как искусство становится чересчур разбросанным, разветвленным, слишком изысканным и сентиментальным. По-моему, всем нам было бы лучше, будь искусство более крепким и сильным, а жизнь более приятной и ласковой. Я читал, что в одном большом городе закрыли восемь крупных театров. А значит, многие актеры остались без куска хлеба и нуждаются в пособии. Сейчас в газетах можно вычитать много жалостных историй. Вчера я никак не мог выкинуть из головы эти восемьдесят миллионов, но я не теряю надежды, что сумею в конце концов справиться с этим наваждением.
В Чикаго негры устраивали собрания, требуя поднять во всем мире уровень жизни чернокожих. Это тоже газетное сообщение. Я люблю, чтобы к завтраку мне подали что-нибудь вкусное, например «Журналь де Женев», а здесь, на этих страницах, я сам создаю нечто вроде журнала. Меня это как-то очень бодрит. Наряду с этим, я должен признаться, что вчера в одной из здешних пивнушек наслаждался чешским пивом. Кружка обходится в сорок пять сантимов. Тут я обнаруживаю свою духовную мелкотравчатость, но мне она доставляет удовольствие. И уж само собой разумеется, заплатив за что-то, я всякий раз пересчитываю свою наличность. Может, во мне сидит, а вернее, из меня прет экономист? Кто-то высмеял меня, а я в ответ высмеял его, но слишком грубо, и тот человек признался, что я сделал ему больно. Почему и дальше все должно так продолжаться? Неужто мы не можем оказывать друг другу хоть малую толику того внимания, в котором так нуждаемся? А потом я сидел в пивнушке как «увешанная золотом казачка». То, что я говорю, буквально срывается у меня с языка. Веселые люди плясали вокруг меня, я аплодировал им, а потом, на улице и дома, все еще смеялся над танцорами, которые, двигаясь в такт музыке, тем самым выказывали ей глубокое уважение и преданность. До чего ж это было забавно! Один ложился на пол и затем медленно-медленно поднимался. Это было до жути смешно, и при виде их мне казалось, что танцует вся Европа, все замечательное бедное человечество. Возвышенное и низкое, умное и неразвитое, просвещенное и пустое — все смешалось в причудливом танце, власть искусства связала их братскими узами. Я вообразил себе, что где-то далеко бьет копытами моя гнедая лошадка. Сколько радости доставила мне эта иллюзия!
И вдруг опять я вспомнил об этих восьмидесяти миллионах на оборонительные цели! Как же мы боимся друг друга! Неужели у нас действительно есть для этого веские основания? Кажется, да. Но ведь известно, что наше корыстолюбие, наш эгоизм, наша нетерпимость обычно обходятся нам втридорога. И так обстоит повсюду, и вряд ли это может измениться, если жизнь, людские души и нервы, сами люди, наконец, не хотят или не могут измениться. Я убежден, что войны сами зарождаются в лоне общества и являются на свет с огромными, бледными, бессмысленными, опухшими лицами. Война — ублюдок, полудевушка, полумужчина, наполовину нарушитель спокойствия, наполовину жертва этого нарушения; ублюдок в страхе мечется среди нас, самому себе отвратительный несносный ребенок стотысячелетней давности. Что касается меня, я не верю в пограничные и национальные конфликты; уж скорее я верю, что пограничные вопросы и принадлежность к той или иной нации всегда не более чем отговорка, что они всего лишь порождение нашей опрометчивости и недовольства. Ведь даже в мирное время мы постоянно «воюем»: молодые ничего не желают знать о стариках, здоровые — о больных, мужественные — о трусах, и один боится и презирает и восхищается и не понимает другого. А как повсюду пренебрегают просвещением, которое, иди оно правильным путем, могло бы сыграть решающую роль. Мы не обращаем внимания на себя и, кажется, даже не имеем на это возможности, ведь мы каждый год отдаем на защиту от предполагаемого врага восемьдесят миллионов.
Я сам себе представляюсь человеком задумчивым, но я научился и привык верить, что в задумчивости есть нечто прекрасное, что я нуждаюсь в ней, что она мне необходима, что она укрепляет мой дух.
Несколько слов о том, как писать роман
© Перевод Е. Вильмонт
Что касается истинной величины романа, который явится отражением эпохи, то количество слов, фраз и т. д. не может иметь решающего значения, хотя подчас, вопреки очевидности, многим именно так и кажется. Что же до содержания, то вот что пришло мне в голову: каждый романист или писатель, или как он еще там себя величает, по природе своей или в силу профессии — светский человек. У одного это свойство может быть органичнее, чем у другого. Но оно нередко бывает мнимым, и потому иной раз кажется, что писатель, светски менее одаренный, легче отваживается заводить светские отношения, нежели тот, кто действительно знает свет. Это происходит оттого, что истинно светский человек не любит, не считает хорошим тоном, или попросту приличным, выставлять напоказ свои особенности, свои познания или взгляды, ведь истинно светскому человеку присущи сдержанность и благородное сознание своего долга, о чем человек несветский или принадлежащий к полусвету знает очень мало или вовсе ничего. Итак, бывают романисты, так сказать, малого духа, стремящиеся к грандиозности и великолепию, что при чтении, конечно, сразу же бросается в глаза и производит жалкое впечатление. Романист же великого духа ведет себя иначе, ясный, осторожный и великий дух прекрасного чувствует себя в скромном непритязательном окружении, ощущая или зная, что тем самым производит хорошее впечатление и оказывает прекрасное, даже возвышенное воздействие на читателя, если только тот способен воспринять книгу так, как хочет автор; такой автор стремится добродушно или с юмором вторгнуться в области, на которые обычно весело взирает сверху вниз. В известной мере он — обладатель состояния, которое не потрогаешь руками, он — нечто вроде настоящего богача. По-моему, каждая истинно добрая, хорошая, мирная и поучительная книга, каждый по-настоящему хороший роман не оставляет ощущения, будто автор перенапряг все свои душевные и творческие силы. В такой книге всегда есть недосказанности, которые можно принять за цветистость слога, есть аромат, есть изобилие, приятное нам. И вот, во имя непреходящей ценности их книг, я хотел бы посоветовать романистам — пусть лучше делают ничтожное значительным, нежели значительное ничтожным.