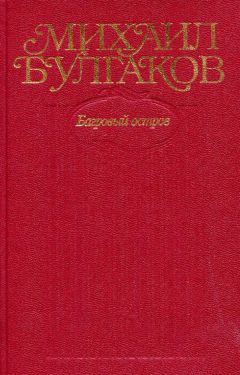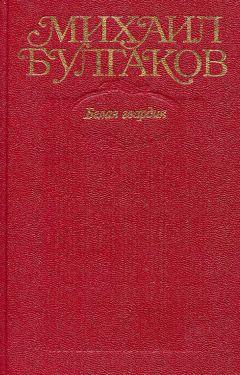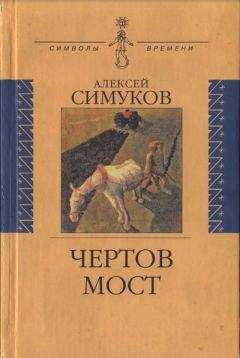Где-то за стеной протрещал звоночек, и Рюхин раскрыл рот: стеганая стена ушла вверх, открыв лакированную красную стену, а затем та распалась и беззвучно на резиновых шинах въехала кровать. Ивана она не заинтересовала. Он глядел вдаль восторженно, слушал весенние громовые потоки и колокола, слышал пение, стихи…
― Ложитесь, ложитесь, — услышал Иван голос приятный и негрозный. Правда, на мгновение его перебил густой и тяжелый бас инженера и тоже сказал «ложитесь», но тотчас же потух.
Когда кровать с лежащим Иваном уходила в стену, Иван уже спал, подложив ладонь под изуродованную щеку. Стена сомкнулась. Стало тихо и мирно, и вверху на стене приятно стучали часы.
― Доктор… это что же, он, стало быть, болен? — спросил Рюхин тихо, смятенно.
— И очень серьезно, — ответил доктор, сквозь пенсне проверяя то, что написала женщина. Он устало зевнул, и Рюхин увидел, что он очень нервный, вероятно, добрый и, кажется, нуждающийся человек…
― Какая же это болезнь у него?
― Мания фурибунда, — ответил доктор и добавил, — по-видимому.
― Это что такое? — спросил Рюхин и побледнел.
― Яростная мания, — пояснил доктор и закурил дрянную смятую папироску.
― Это, что ж, неизлечимо?
― Нет, думаю, излечимо.
― И он останется здесь?
― Конечно.
Тут доктор изъявил желание попрощаться и слегка поклонился Рюхину. Но Рюхин спросил заискивающе:
― Скажите, доктор, что это он все инженера ловит и поминает! Видел он какого-нибудь инженера?
Доктор вскинул на Рюхина глаза и ответил:
― Не знаю.
Потом подумал, зевнул, страдальчески сморщился, поежился и добавил:
― Кто его знает, может быть, и видел какого-нибудь инженера, который поразил его воображение…
И тут поэт и врач расстались.
Рюхин вышел в волшебный сад с каменного крыльца дома скорби и ужаса. Потом долго мучился. Все никак не мог попасть в трамвай. Нервы у него заиграли. Он злился, чувствовал себя несчастным, хотел выпить. Трамваи пролетели переполненные. Задыхающиеся люди висели, уцепившись за поручни. И лишь в начале второго Рюхин совсем больным неврастеником приехал в «Шалаш». И тот был пуст. На веранде сидели только двое. Толстый и нехороший, в белых брюках и желтом поясе, по которому вилась золотая цепочка от часов, и женщина. Толстый пил рюмочкой водку, а женщина ела шницель. Сад молчал, и ад молчал.
Рюхин сел и больным голосом спросил малый графинчик… Он пил водку и чем больше пил, тем становился трезвей и тем больше темной злобы на Пушкина и на судьбу рождалось в душе…
Помоги, Господи, кончить роман.
1931 г.
— Об чем волынка, граждане? — спросил Бегемот и для официальности в слове «граждане» сделал ударение на «да». — Куда это вы скакаете?
……….
Кота в Бутырки? Прокурор накрутит вам хвосты.
……….
Свист.
…и стая галок поднялась и улетела.
― Это свистнуто, — снисходительно заметил Фагот, — не спорю, — свистнуто! Но, откровенно говоря, свистнуто неважно.
― Я не музыкант, — отозвался Бегемот и сделал вид, что обиделся.
― Эх, ваше здоровье! — пронзительным тенором обратился Фагот к Воланду, — дозвольте уж мне, старому регенту, свистнуть.
― Вы не возражаете? — вежливо обратился Воланд к Маргарите и ко мне.
― Нет, нет, — счастливо вскричала Маргарита, — пусть свистнет! Прошу вас! Я так давно не веселилась!
― Вам посвящается, — сказал галантный Фагот и предпринял некоторые приготовления. Вытянулся, как резинка, и устроил из пальцев замысловатую фигуру. Я глянул на лица милиционеров, и мне показалось, что им хочется прекратить это дело и уехать.
Затем Фагот вложил фигуру в рот. Должен заметить, что свиста я не услыхал, но я его увидал. Весь кустарник вывернуло с корнем и унесло. В роще не осталось ни одного листика. Лопнули обе шины в мотоциклетке и треснул бак. Когда я очнулся, я видел, как сползает берег в реку, а в мутной пене плывут эскадронные лошади. Всадники же сидят на растрескавшейся земле группами.
― Нет, не то, — со вздохом сказал Фагот, осматривая пальцы, — не в голосе я сегодня.
― А вот это уже и лишнее, — сказал Воланд, указывая на землю, и тут я разглядел, что человек с портфелем лежит раскинувшись и из головы течет кровь.
― Виноват, мастер, я здесь ни при чем. Это он головой стукнулся об мотоциклетку.
― Ах, ах, бедняжка, ах, — явно лицемерно заговорил весельчак Бегемот, наклоняясь к павшему, — уж не осталась бы супруга вдовою из-за твоего свиста.
― Ну-с, едем!
Нежным голосом завел Фагот… «черные скалы мой покой…»
— Ты встретишь там Шуберта и светлые утра.
На закате двое вышли на Патриаршие Пруды. Первый был лет тридцати, второй — двадцати четырех. Первый был в пенсне, лысоватый, гладко выбритый, глаза живые, одет в гимнастерку, защитные штаны и сапоги. Ножки тоненькие, но с брюшком.
Второй в кепке, блузе, носящей идиотское название «толстовка», в зеленой гаврилке и дешевеньком сером костюме. Парусиновые туфли. Особая примета: над правой бровью грандиозный прыщ.
Свидетели? То-то, что свидетелей не было, за исключением одного: домработницы Анны Семеновой, служащей у гражданки Клюх-Пелиенко. Впоследствии на допросе означенная Семенова Анна показала, что: а) у Клюх-Пелиенко она служит третий год, б) Клюх — ведьма… Семенова собиралась подавать в народный суд за то, что та (Клюх) ее (Семенову) обозвала «экспортной дурой», желая этим сказать, что она (Семенова) не простая дура, а исключительная. Что в профсоюз она платит аккуратно, что на Патриарших Прудах она оказалась по приказанию Клюх, чтобы прогулять сына Клюх Вову. Что Вова золотушен, что Вова идиот (экспортный). Велено водить Вову на Патриаршие Пруды.
Товарищ Курочкин, на что был опытный человек, но еле избавился от всего этого потока чепухи и поставил вопрос в упор: о чем они говорили и откуда вышел профессор на Патриаршие? По первому вопросу отвечено было товарищем Семеновой, что лысенький в пенсне ругал Господа Бога, а молодой слушал, а к тому времени, как человека зарезало, они с Вовой уже были дома. По второму — ничего не знает. И ведать не ведает. И если бы она знала такое дело, то она бы и не пошла на Патриаршие. Словом, товарищ Курочкин добился только того, что товарищ Семенова действительно дура, так что и в суд, собственно, у нее никаких оснований подавать на гражданку Клюх нету. Поэтому отпустил ее с миром. А более действительно в аллее у Пруда, как на грех, никого не было.
Так что уж позвольте мне рассказывать, не беспокоя домработницу.
Что ругал он Господа Бога — это, само собой, глупости. Антон Миронович Берлиоз (потому что это именно был он) вел серьезнейшую беседу с Иваном Петровичем Теткиным, заслужившим громадную славу под псевдонимом Беспризорный. Антону Миронычу нужно было большое антирелигиозное стихотворение в очередную книжку журнала. Вот он и предлагал кой-какие установки Ване Беспризорному.
Солнце в громе, удушье, в пыли падало за Садовое Кольцо, Антон Миронович, сняв кепочку и вытирая платком лысину, говорил, и в речи его слышались имена……….
Иванушка рассмеялся и сказал:
— В самом деле, если Бог вездесущ, то, спрашивается, зачем Моисею понадобилось на гору лезть, чтобы с ним беседовать? Превосходнейшим образом он мог с ним и внизу поговорить.
В это время и показался в аллее гражданин. Откуда он вышел? В этом-то весь и вопрос. Но и я на него ответить не могу. Товарищу Курочкину удалось установить……….
Видимо, опечатка в книге. Правильнее было бы — 1929. Примечание сканировщика.
Рукопись не сохранилась. В Отделе рукописей Российской Государственной библиотеки и в Музее Театра Вахтангова хранится несколько машинописных копий пьесы, отражающих ее творческую историю.
В авторизованной машинописи 1925–1926 гг. (Музей Театра Вахтангова, № 437) среди действующих лиц упоминаются два дворника, Мифическая личность как Ромуальд Муфтер, с необыкновенной легкостью используются такие исторические личности, как Маркс, Калинин, Луначарский, президент Франции Пуанкаре, шутят по адресу МХАТа, «типичных» домовладельцев; есть и другие сцены и эпизоды, в частности, «сцена с аппаратами» в МУРе, наполненные современными «реалиями», злободневным содержанием, от которых пришлось отказаться после первой же генеральной репетиции и обсуждения ее итогов на Совете Театра: Главрепертком высказал множество пожеланий, исполнение которых было обязательным для разрешения спектакля. Так закончилась история с первым вариантом первой редакции пьесы.