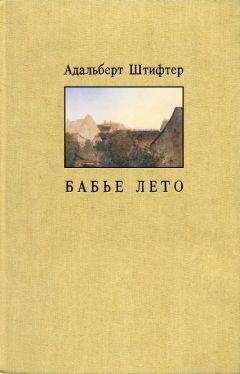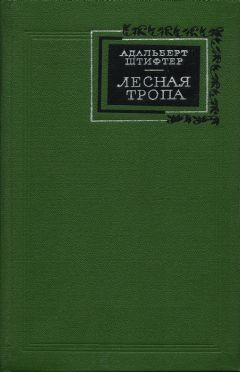Поблагодарив, я удалился. Зная здешний распорядок дня, я понимал, что он продолжит свои занятия с Густавом.
Сначала я пошел к мраморной лестнице. Я хотел выйти к ней сверху. Пройдя из людского коридора в верхнюю часть коридора мраморного, я надел, как здесь полагалось, стоявшие наготове войлочные башмаки и стал спускаться по гладкой, прекрасной лестнице. Дойдя до ее середины, где находится широкая площадка, я остановился: это и была цель моего похода. Я хотел поглядеть на мраморную фигуру. Даже сегодня, в свинцовом свете, замутненном к тому же текущей но стеклянному своду водой и падавшем как-то вяло, зрелище это было замечательное и возвышенное. Величественная дева, всегда спокойная и прелестная, была сегодня, в текучей пелене приглушенного света, хотя и сумрачна, но полна мягкости, и строгость дня сливалась со строгостью ее несказанно прекрасных черт. Я долго смотрел на статую. Как и при каждой новой встрече, она опять была для меня нова. Как ни запала мне в душу после недавних событий ослепительно белая фигура фонтанной нимфы в Штерненхофе, она была все же изваянием нашего времени и была для нас постижима. Здесь же представала сама древность во всей своей величавости. Что есть человек и как он возвышается, когда ему дано пребывать в таком окружении, да еще при величайшем изобилии подобного окружения?
Я снова медленно поднялся по лестнице и пошел в мраморный зал. Его громадность, его пустота, темный, если так можно выразиться, блеск, мелькавший при неверном и переменчивом свете дня на его стенах, не подавляли после встречи с изваянием древности. В этот хмурый день зал показался мне еще больше и строже, чем обычно, и мне хотелось побыть в нем, хотелось почти так же сильно, как в тот вечер, когда мой гостеприимец, при отдаленных вспышках на грозовом небе, ходил по этому залу взад и вперед. Теперь я тоже ходил по нему взад и вперед, глядел на тусклые блики от бури за окнами и снова вспоминал статую, которую только что видел.
Через некоторое время я вышел в дверь, что вела в картинную. В сумрачном блеске дня картины теряли выразительность даже тогда, когда художник применял сильнейшие средства светотени, ибо не хватало того, что только и помогает писать картины, — мощи солнечного и ясного дня. Даже подходя к картинам, которые я особенно любил, даже сев на стул перед одним Гвидо, стоявшим на подвинутом к окну и потому лучше освещенном мольберте, чтобы рассмотреть картину как следует, я не мог проникнуться чувством, которое обычно рождали во мне эти произведения. Вскоре я понял причину: она состояла в том, что гораздо более высокое чувство вызвала у меня в душе древняя статуя. Картины казались мне чуть ли не маленькими. Я пошел в библиотеку, взял из шкафа «Одиссею», направился с нею в читальную комнату, где за тонкой решеткой камина приветливо пылал веселый огонь, друг человека, дарующий ему в темноте свет, а в северные зимы тепло, и где царили чистота и порядок, и под шорох дождя за окнами стал читать с первой строки. Чужеязычные слова, когда-то принадлежавшие далекому времени, образы, которые во всей их своеобычности входили через эти слова в наше время, сливались с увиденной мною на лестнице девой. Когда появилась Навсикая, у меня возникло то же ощущение, что при нервом настоящем осмотре мраморной статуи: твердые каменные одежды стали легкими, нежными, члены пришли в движение, на лице заиграла жизнь, и статуя предстала мне Навсикаей. Воспоминание о том вечере и заставило меня прибегнуть к гомеровским строкам, после того как я поднялся по лестнице в мраморный зал и не нашел в нем утоления. Когда герои кончили пир в зале, когда позвали певца, когда прозвучали слова той песни, слава которой тогда достигала небес, когда Одиссей закутал голову, чтобы не видно было полившихся у него из глаз слез, когда, наконец, Навсикая просто и растроганно остановилась у колонн входа в зал, передо мной, улыбаясь, явился прекрасный образ Наталии. Она была Навсикаей сегодня, такая правдивая, такая простая, она не выставляла напоказ своего чувства и не скрывала его. Оба образа сливались друг с другом, и я читал и в то же время думал, то читал, то думал, а после того как очень долгое время только думал, я взял со стола лежавшую передо мной книгу, отнес ее в библиотеку, поставил на место и вернулся через мраморный зал и коридор с комнатами для гостей в свое жилище.
Труд первой половины дня был исполнен.
К обеду снова собрались те же лица, что и за завтраком. Поев простой, но полезной и здоровой пищи, приготовленной, как всегда в доме роз, превосходно, дружески и весело поговорив, мы поднялись, чтобы снова заняться своими делами, которые для каждого были значительны и важны, состояли ли они в приобретении знаний, как почти целиком у Густава, в продвижении ли в каком-то искусстве или на поприще науки или в верном устройстве собственной жизни.
На вторую половину этого дня было намечено особое дело, для которого должен был явиться и Роланд, прекратив сегодняшнюю работу над своею картиной. С предложением о продаже в дом прибыла некая коллекция гравюр на меди, и осмотр ее назначили на вторую половину дня. Мой гостеприимец пригласил и меня. Гравюры лежали в двух папках в комнате моего гостеприимца. Мы прошли по лестнице для слуг в его комнату и подвинули стол с гравюрами ближе к окну, чтобы лучше рассмотреть листы. Папки были раскрыты, и вскоре стало видно, что собиратель хранившихся в них листов не был человеком, имеющим какое-либо представление о глубине искусства, о его серьезности и о его значении для человеческой жизни. Коллекционер он был самый заурядный, сосредоточенный на количестве и разнообразии листов. Теперь он лежал в могиле, а его наследники, видимо, понятия не имели ни об отношении искусства к человеческой жизни, ни о коллекционировании вообще, отчего и предложили купить все листы моему гостеприимцу, о котором слышали, что он охотник до таких курьезных вещей. Наряду с ничего не стоящими изделиями грабштихеля в нынешней пошлой манере, какие печатают в книгах и альбомах ради денег, наряду с литографиями рисунков пером и мелом здесь были также кое-какие неплохие современные произведения и, главное, несколько ценных старинных работ. Мой гостеприимец и оба его помощника высказывали по поводу гравюр новые для меня суждения, благодаря чему я узнал о значении этого искусства больше, чем знал раньше. Поскольку оно способно передавать произведения больших мастеров всех времен, поскольку картину, которая существует в одном экземпляре и недоступна многим, находясь в недостижимо далеком от них месте, а порою, будучи чьей-то личной собственностью, недоступна и тем, кто живет рядом, оно способно размножить ее и выставить напоказ во многих местах, да и в далеком будущем, искусство это заслуживает величайшего внимания. Если оно не потрафляет какой-то процветающей в определенное время манере, а старается передать выразившуюся в картине душу художника, если оно передает не только материал картины, от нежности человеческого лица и человеческих рук до блеска шелка, гладкости металла, шероховатости скал и ковров, но даже и примененные художником краски — разными, но всегда ясными, легкими, изящными линиями, никогда не случайными, никогда не выпячивающимися, никогда не образующими просто какое-то пятно, всегда заново найденными для овладения каждым новым предметом, — тогда оно, правда, не может сравниться с живописью по непосредственному воздействию на зрителей, но может быть признанно равным ей как искусство вообще, потому что оно воздействует на большее число людей и оказывает на тех, кто не может увидеть воспроизведенных картин, тем более глубокое и полное эстетическое воздействие, чем глубже и благороднее оно само. Это я все больше понимал в общении со своим гостеприимцем, и это стало мне особенно ясно, когда рассматривали гравюры и говорили об их качестве и о средствах, путях и воздействии гравировального искусства вообще. Подробно рассмотрев лучшие листы, обстоятельно обсудив их достоинства и недостатки, решили, что ради лучших листов стоит купить всю коллекцию, если цена ее не превзойдет определенной суммы, которую можно по справедливости заплатить. Скверные листы следует затем уничтожить, потому что своим существованием они не только не оказывают хорошего действия, но и направляют чувства того, кто не видит ничего лучшего, по более грубому и ложному направлению, чем то, какое бы они приняли, если бы не знали ничего, кроме произведений самой природы. Человеческий дух, сказали собеседники, загрязняется от лжеискусства больше, чем от непричастности ко всякому искусству. Когда стало смеркаться, гравюры были уложены в папки, стол отодвинут на свое место, и мы разошлись.
Буря скорее усилилась, чем утихла, и дождь бил в окна ручьями.
Вечером мы опять собрались в кабинете моего гостеприимца, не было только Густава, потому что он еще был занят у себя в комнате своим дневным уроком. Прежде чем мы сели за ужин, мой гостеприимец записал в свои книги показания приборов, относившиеся к атмосферному давлению, влажности, теплу, электричеству и тому подобному, затем обошел весь дом, все осмотрел в нем, проверил, выполнили ли домашние порученную им работу, чем они сейчас занимаются и как повлияла на все сегодняшняя буря.