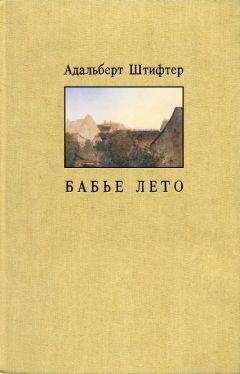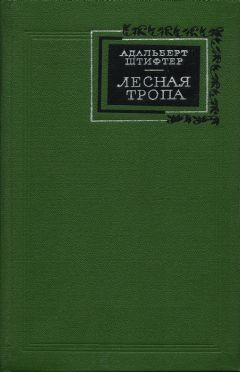Пробыв некоторое время в столярной и поговорив и о других предметах, кроме тех, что в ней находились или были связаны с ней, мы ушли оттуда, и мой друг с Густавом проводили меня сначала в дом, а потом и в мои комнаты. В них было уже тепло, судя по звукам, в печи пылал огонь, все было подметено и вычищено, на окнах белели свежие занавески, на кровати и на той мебели, где это полагалось, — чехлы, и все мои дорожные вещи, которые я привез на санях, находились уже в моем жилье. Сказав, чтобы я привел себя в порядок и устраивался, мой гостеприимец вместе с Густавом покинул меня.
Распаковав привезенные с собой вещи, я распределил их так, что обе отведенные мне комнаты приняли довольно уютный для зимы вид, чему способствовало и царившее здесь тепло. Я этого и хотел, независимо от того, долго ли проживу в этих комнатах, что зависело от обстоятельств, предвидеть которые я не мог. В особенности свои книги, письменные принадлежности и приспособления для рисования я разместил так, чтобы это как можно лучше, насколько я мог теперь судить, отвечало моим желаниям. Покончив со всем этим, я переоделся, сменил дорожную одежду на более удобную и домашнюю.
Затем я совершил прогулку. Я поднялся через сад своей обычной дорогой к высокой вишне. По хорошо утоптанной в снегу тропинке я заключил, что здесь часто ходят и что сад этот зимой не заброшен, как то бывает со многими садами, и чего не терпят также мои родители, которые дружны с ним и зимою. Даже боковые дорожки были утоптаны, а кое-где видно было, что после сильного снегопада пускали в ход и лопату. Нежнейшие деревца и другие растения были укутаны соломой, все, чему полагалось находиться за стеклом, было хорошенько закрыто и зашпаклевано, все грядки и помещения, занесенные снегом, были как бы обрамлены и размечены окружавшими их дорожками. Ветви деревьев были освобождены от инея, мелкие снежинки на них не задерживались, и они казались особенно темными, чуть ли не черными среди окружавшего их снега. Они качались на ветру и шумели там, где могучие части большого дерева составляли густую, как бы сплошную массу. На голых ветках еще яснее и чаще видны были прикрепленные к деревьям ящички для гнезд. Но пернатых жильцов не было ни видно, ни слышно. Не было ли их здесь вообще, было ли их мало, делала ли их незаметными буря или они скрывались в каких-то укрытиях, в своих домиках? В ветках высокой вишни ветер бушевал вовсю. Я встал под это дерево возле скамьи у его ствола и посмотрел на юг. Темная решетка деревьев лежала подо мной как черная беспорядочная ткань на снегу, дальше был виден дом с его белой крышей, а еще дальше ничего нельзя было разглядеть. Мелькали лишь бледные просветы или темные пятна в зависимости от того, смотрел ли ты на снежные поля или на леса, но ясно ничего нельзя было разглядеть, и длинными полосами, как бы туманными нитями, из которых ткалась ткань, падал снег с неба.
От вишни я не мог выйти на простор, ибо калитка была заперта. Поэтому я повернулся и пошел к дому другой дорогой.
В тот же день я узнал, что здесь Роланд. Мой гостеприимец зашел за мной, чтобы проводить меня к нему. Ему приготовили в доме хорошую комнату. Там он как раз сейчас писал маслом какой-то пейзаж. Когда мы вошли, он стоял у мольберта, находившегося хотя и посередине комнаты, но дальше от окна, чем то обычно бывает. Второе окно было завешено. На Роланде была полотняная накидка, а в руке он держал палитру и палочку. Увидев нас, он положил то и другое на стоявший рядом с ним столик и шагнул нам навстречу. Мой гостеприимец сказал, что это он привел меня сюда, надеясь, что Роланд не будет против.
— Я очень рад такому гостю, — сказал тот, — но в моей картине, наверное, много недостатков.
— Кто это знает? — сказал мой гостеприимец.
— Я сам вижу, — отвечал Роланд, — и у других, сведущих в этом деле, тоже, наверно, найдется немало замечаний.
С этими словами мы подошли к картине.
Ничего подобного я не видел. Не то чтобы я нашел картину такой уж прекрасной, об этом еще нельзя было судить, поскольку многое пребывало еще в самом начальном состоянии, а кое-что показалось мне вообще непреодолимым. Но по замыслу и по мысли картина показалась мне замечательной. Она была очень велика, больше обычного формата пейзажей и в несвернутом виде ее просто нельзя было бы вынести из комнаты, где она создавалась. Изображены на ней были не горы, не потоки, не равнины, не леса, не морская гладь с красивыми кораблями, а застывшие скалы, высившиеся не в каком-то порядке, а как попало, торчавшие в земле глыбами косо и вразнобой, напоминая норманнов, осевших на не принадлежавших им островах. Но земля здесь не походила на землю тех островов, нет, ее не покрывали издревле знаменитые поля или темные плодоносные деревья, она лежала в трещинах, вздыбленная, без дерева, без кустика, в сухих травинках, в белеющих морщинах с бесчисленными камнями кварца, с россыпями окатышей под иссушающим солнцем. Такова была земля Роланда, так покрывала она огромную площадь очень большими и простыми частями, а над нею, отбрасывая тени, в одиночку и скопом, переливались облака на жарком, глубоком, южном небе.
Мы постояли перед картиной, разглядывая ее. Роланд стоял за нами, и случайно обернувшись, я увидел, что он смотрит на свое полотно горящими глазами. Мы говорили мало, почти молчали.
— Он поставил себе задачей изобразить предмет, которого не видел, — сказал мой гостеприимец, — он представляет его себе только в воображении. Посмотрим, насколько это удастся. Такие или, вернее, подобные вещи мне случалось видеть только далеко на юге.
— Я не имел в виду чего-то определенного, — отвечал Роланд, — а только передавал какие-то свои видения. К тому же мне хотелось писать масляными красками, которые всегда больше привлекали меня, чем мои акварельные, и лучше передают величественность и пламенность.
Присмотревшись к его принадлежностям, я заметил, что у его кистей необыкновенно длинные черенки, и работает он, стало быть, стоя поодаль, что, наверное, и необходимо при такой большой площади полотна и что я заключил и по манере письма. Кисти у него были довольно толстые, и еще я увидел длинные, тонкие палочки, к концам которых были прикреплены угли, которыми он, вероятно, делал наброски. Краски на палитре были в больших количествах.
— Хозяин этого дома так добр, — сказал Роланд, — что позволяет мне орудовать здесь, хотя мне надлежало бы делать нужные нам сейчас зарисовки и работать над чертежами изготовляемых здесь в данное время вещей.
— Все устроится, — ответил мой гостеприимец, — вы уже сделали чертежи, которые мне нравятся. Работайте по своему благоусмотрению. Ваша душа не даст вам сбиться с пути.
Чтобы не мешать больше стоявшему перед своим полотном Роланду, вокруг которого все в комнате было направлено на эту работу, тем более что зимние дни и так-то коротки, мы удалились.
Когда мы шли по коридору, мой гостеприимец сказал:
— Ему надо бы попутешествовать.
С наступлением темноты мы собрались в кабинете моего гостеприимца у натопленной печи. Пришли Ойстах, Роланд, Густав и я. Говорили о разных вещах, но больше всего об искусстве и о предметах, которые как раз находились в работе. Многого Густав, возможно, не понимал, да и говорил он очень мало. Но разговор этот, наверное, способствовал его развитию, и даже непонятное, вероятно, рождало смутные догадки, которые куда-то вели или могли в будущем обрести какую-то твердую форму. Я прекрасно знал это по опыту собственной юности и даже по своему нынешнему.
Вернувшись к себе в спальню, я нашел довольно приятным, что в печи горели поленья из принадлежавшего моему гостеприимцу букового леса, который был частью Алицкого. Я еще почитал и кое-что записал.
На следующее утро шел дождь. Он лил ручьями из синеватых, однообразных туч, мчавшихся по небу. Ветер набрал такую силу, что выл вокруг всего дома. Поскольку дул он с юго-запада, дождь бил в мои окна и заливал стекла. Но дом был построен очень хорошо, и потому единственным следствием дождя и ветра было чувство надежной защищенности в комнате. Нельзя также отрицать, что буря, когда она достигает определенной силы, несет в себе что-то величественное и способна укрепить дух. Первые утренние часы я провел при свете лампы в тепле за письмом к отцу и матери, где сообщал, что побывал на эхерском льду, что при подъеме и спуске соблюдал всяческую осторожность, что никаких несчастных случаев у нас не было и что со вчерашнего дня я нахожусь у своего друга в доме роз. Для Клотильды я приложил отдельный листок, где, основываясь на частичном знании гор, приобретенном ею во время нашего совместного путешествия, дал ей небольшое описание зимнего высокогорья. Когда стало светлее и подошел час завтрака, я спустился в столовую. Здесь я узнал, что зимою Ойстах и Роланд, чье вчерашнее присутствие на ужине я счел случайным, обычно едят с моим гостеприимцем и Густавом. Так полагалось и летом, но поскольку в это время года в столярной мастерской встают и приступают к работе задолго до восхода солнца, часы приема пищи невольно меняются, и Ойстах сам попросил предоставить ему выбор времени и рода его еды, а Роланд в это время года и так обычно не бывает дома. Я никогда не бывал среди зимы в доме роз, а потому и не мог знать об этом обычае. Итак, мой гостеприимец, Ойстах, Роланд, Густав и я сидели за завтраком. Разговор шел главным образом о погоде, которая так вдруг забушевала, обсуждалось, как это произошло, чем это объясняется, говорилось, что это дело естественное, что каждый дом должен быть подготовлен к таким зимним дням и что такие события надо переносить терпеливо, даже уметь находить в них некую приятную перемену. После завтрака все принялись за свою работу. Мой гостеприимец ушел к себе в комнату, чтобы продолжить там начатый им уже разбор пергаментов, Ойстах ушел в столярную мастерскую. Роланд, для которого, несмотря на пасмурный день, света наконец стало достаточно, чтобы взяться за кисть, отправился к своей картине. Густав продолжил свои учебные занятия, а я снова пошел в свою комнату.