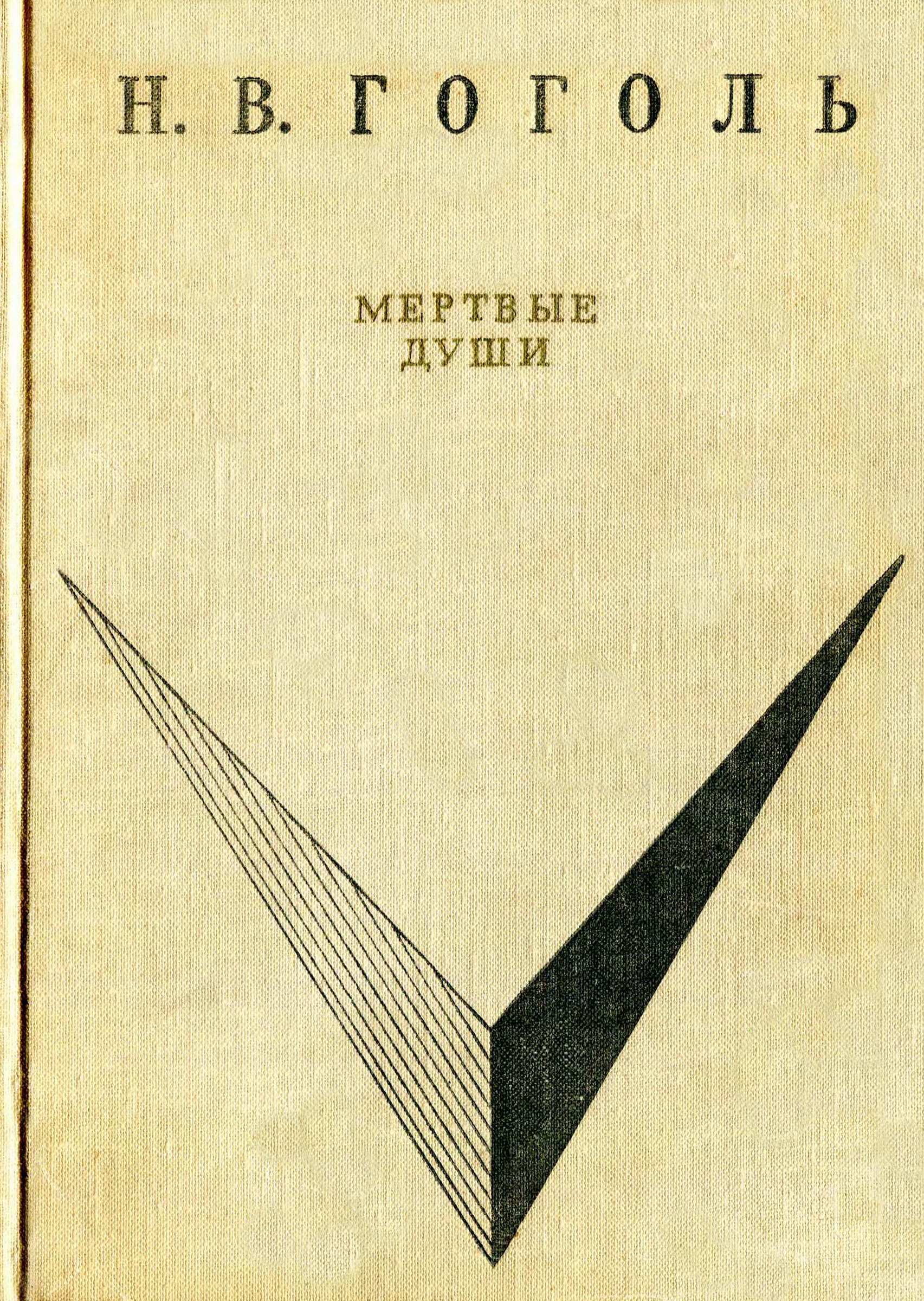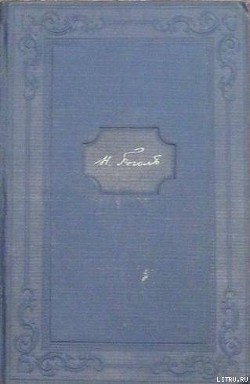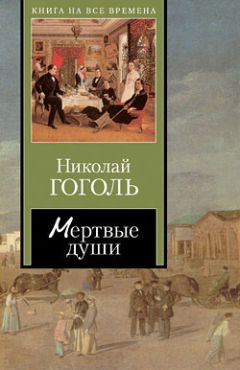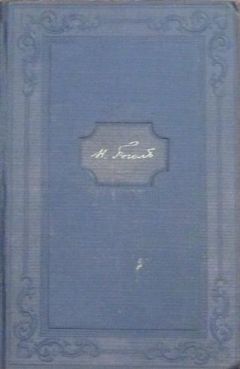это делают бестолково. А теперь вижу, что и это суета, и в этом не много толку. Нет, Афанасий Васильевич, никуда не гожусь, ровно никуда, говорю вам. На малейшее дело не способен.
— Послушайте, Петр Петрович! Но ведь вы же мо́литесь, хо́дите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаете и идете — идете в четыре часа утра, когда никто не подымается.
— Это — другое дело, Афанасий Васильевич. — Я это делаю для спасения души, потому что в убеждении, что этим хоть сколько-нибудь заглажу праздную жизнь, что как я ни дурен, но молитвы все-таки что-нибудь значат у бога. Скажу вам, что я молюсь, — даже без веры, но все-таки молюсь. Слышится только, что есть господин, от которого все зависит, как лошадь и скотина, которою пашем, знает чутьем того, кто запрягает.
— Стало быть, вы молитесь затем, чтобы угодить тому, которому молитесь, чтобы спасти свою душу, и это дает вам силы и заставляет вас подыматься рано с постели. Поверьте, что если бы вы взялись за должность свою таким образом, как бы в уверенности, что служите тому, кому вы молитесь, у вас бы появилась деятельность, и вас никто из людей не в силах был бы охладить.
— Афанасий Васильевич! вновь скажу вам — это другое. В первом случае я вижу, что я все-таки делаю. Говорю вам, что я готов пойти в монастырь и самые тяжкие, какие на меня ни наложат, труды и подвиги я буду исполнять там. Я уверен, что не мое дело рассуждать, что взыщется с тех, которые заставили меня делать; там я повинуюсь и знаю, что богу повинуюсь.
— А зачем же так вы не рассуждаете и в делах света? Ведь и в свете мы должны служить богу, а не кому иному. Если и другому кому служим, мы потому только служим, будучи уверены, что так бог велит, а без того мы бы и не служили. Что ж другое все способности и дары, которые розные у всякого? Ведь это орудия моленья нашего: то — словами, а это делом. Ведь вам же в монастырь нельзя идти: вы прикреплены к миру, у вас семейство.
Здесь Муразов замолчал. Хлобуев тоже замолчал.
— Так вы полагаете, что если бы, например, у вас было двести тысяч, так вы могли бы упрочить жизнь и повести отныне жизнь расчетливее?
— То есть, по крайней мере, я займусь тем, что можно будет сделать, — займусь воспитанием детей, буду иметь в возможности доставить им хороших учителей.
— А сказать ли вам на это, Петр Петрович, что чрез два года будете опять кругом в долгах, как в шнурках?
Хлобуев несколько помолчал и начал с расстановкою:
— Однако ж нет, после этаких опытов…
— Да что ж опыты, — сказал Муразов. — Ведь я вас знаю. Вы человек с доброй душой: к вам придет приятель попросить взаймы — вы ему дадите; увидите бедного человека — вы захотите помочь; приятный гость придет к вам — захотите получше угостить, да и покоритесь первому доброму движенью, а расчет и позабываете. И позвольте вам, наконец, сказать по искренности, что детей-то своих вы не в состоянии воспитать. Детей своих воспитать может только тот отец, который уж сам выполнил долг свой. Да и супруга ваша… она и доброй души… она совсем не так воспитана, чтобы детей воспитать. Я даже думаю — извините меня, Петр Петрович, — не во вред ли детям будет даже и быть с вами!
Хлобуев призадумался; он начал себя мысленно осматривать со всех сторон и наконец почувствовал, что Муразов был прав отчасти.
— Знаете ли, Петр Петрович? отдайте мне на руки это — детей, дела; оставьте и семью вашу, и детей: я их приберегу. Ведь обстоятельства ваши таковы, что вы в моих руках; ведь дело идет к тому, чтобы умирать с голоду. Тут уже на все нужно решаться. Знаете ли вы Ивана Потапыча?
— И очень уважаю, даже несмотря на то, что он ходит в сибирке.
— Иван Потапыч был миллионщик, выдал дочерей своих за чиновников, жил как царь; а как обанкрутился — что ж делать? — пошел в приказчики. Не весело-то было ему с серебряного блюда перейти за простую миску: казалось-то, что и руки ни к чему не подымались. Теперь Иван Потапыч мог бы хлебать с серебряного блюда, да уж не хочет. У него уж набралось бы опять, да он говорит: «Нет, Афанасий Иванович [366], служу я теперь уж не себе, и не для себя, а потому, что бог так судил. По своей воле не хочу ничего делать. Слушаю вас, потому что бога хочу слушаться, а не людей, и так как бог устами лучших людей только говорит. Вы умнее меня, а потому не я отвечаю, а вы». Вот что говорит Иван Потапыч; а он, если сказать по правде, в несколько раз умнее меня.
— Афанасий Васильевич! вашу власть и я готов над собою признать, ваш слуга и что хотите; отдаюсь вам. Но не давайте работы свыше сил: я не Потапыч и говорю вам, что ни на что доброе не гожусь.
— Не я-с, Петр Петрович, наложу-с на вас, а так как вы хотели бы послужить, как говорите сами, так вот богоугодное дело. Строится в одном месте церковь доброхотным дательством благочестивых людей. Денег не станет, нужен сбор. Наденьте простую сибирку… ведь вы теперь простой человек, разорившийся дворянин и тот же нищий: что ж тут чиниться? — да с книгой в руках, на простой тележке и отправляйтесь по городам и деревням. От архиерея вы получите благословенье и шнурованную книгу, да и с богом.
Петр Петрович был изумлен этой совершенно новой должностью. Ему, все-таки дворянину некогда древнего рода, отправиться с книгой в руках просить на церковь, притом трястись на телеге! А между тем вывернуться и уклониться нельзя: дело богоугодное.
— Призадумались? — сказал Муразов. — Вы здесь две службы сослужите: одну службу богу, а другую — мне.
— Какую же вам?
— А вот какую. Так как вы отправитесь по тем местам, где я еще не был, так вы узнаете-с на месте все: как там живут мужички, где побогаче, где терпят нужду и в каком состоянье все. Скажу вам, что мужичков люблю оттого, может