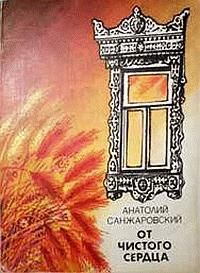Ознакомительная версия.
– Дела! – хохотнул кто-то в толпе.
– Но не об этом парадоксе речь, – всклад вела свое девчушечка. – Во вторник, двадцать первого сентября одна тысяча семьсот восемьдесят первого года (видали, во вторник, упомнила такое!), вместе с гербами других городов губернии утверждён и герб нашего города: «Зелёное поле, разделённое на два щита; в верхнем герб губернского города, а в нижнем ржаной стебель с колосьями и под ними перепёлка, что все служило эмблемою обильного хлебородства в уезде». Славен хлебами и ныне наш край. Посмотрите на постамент. Перед вами первые помощники у крестьянина. До революции – соха. Сохой да бороной русская стояла деревня. Слева от сохи «Универсал», один из первых советских тракторов, и рядом венец тракторостроения К-701. Двести семьдесят лошадок! Вот смотрите и сравнивайте, когда легче давался крестьянину хлеб.
Все важно закивали головами, в крайней восторженности глядят то на «венец», то на побитую жуком, потемнелую за давностью и бездельем ветхую сошеньку – кривую ноженьку.
Девчушка помолчала миг какой, перевела дух и свежим голоском снова собрала любопытство толпы:
– Товарищи! Я хотела бы остановить ваше особое внимание на «Универсале». У этого трактора завидная судьба. Неспроста под ним на пьедестале выбито:
Заслужил и честь и славу
Трактор-дедушка по праву.
На нём начинала, долгое время работала первая у нас в районе трактористка, опять же первый в районе Герой труда Марьяна Михайловна Соколова. Именно про этот «Универсал», про её хозяйку поэт Геннадий Лутков и композитор Константин Массалитинов написали песню «Трактор на граните». В первый раз хор спел её на полевом стане перед соколовским звеном.
По земле проходят поколенья,
И земля их подвиги хранит.
Есть в краю воронежском селенье,
Где поставлен трактор на гранит.
Иногда сюда на зорьке красной
Женщина приходит, как родня.
Говорит ему негромко: «Здравствуй!
Как ты тут, почетный, без меня?…
Не скучаешь ли по вешним росам,
По веселым вербам у пруда?
Может, по ночам твоим колесам
Снится голубая борозда?
А у нас дела идут неплохо,
Вновь нам сеять зерна доброты.
За собой уводит нас эпоха,
И за нами не поспеешь ты.
Мы тебя, железный, не забудем,
Золотят тебя рассвет, закат.
И о нашей молодости люди,
На тебя взглянув, заговорят.
– Хорошо! – сказала за всех мадама с пудельком голубым.
– Вы только подумайте! – в огонь распалялась девчушка. – Сорок лет за рулём! И Марьяна Михална не только великая труженица. Она ещё и жена, она ещё и мать семерых детей, она ещё и бабушка, она ещё и депутат, она ещё и…
С каждым новым чином, что в лихости выкликала туристова предводительша, я приседала по-за чужими спинами всё ниже, ниже, ниже, будто кто вбивал мне в душу аршинные гвозди конфуза.
Мне и неловко, и совестно.
Люди ехали Бог весть откуда. А им про старуху про какую-то талдычат. Видите ль, она «чувствует поле колесами своего трактора»! Эка медалька-невидалька…
«Господи! Да на что ж её слушать? Лучше б чапали в музей к своим мамонтам…»
Прилегла на площади маятная тишина.
Стою чуть тебе не на карачках, шерстю себя что есть зла.
«И отвратней всего то, что из бабьего срамного любопытства подслушивала я вовсе мне и непредназначаемое. А ну откроется вот моя штука? А ну устроят надо мной какой проучительный пасквиль?…»
Пораздумала я только так – ан надо мной и упади-распластайся молоденький басок.
– Бабуника! – твёрдо сказал басок.
Я так вся и сомлела. На полпутях остановила вдох. Выжидаю, что оно будет.
Дал выдержку и он. А потом говорит:
– Бабуника, ты чего корёжишься? Ты чего припадаешь к земле? Тебе, часом, не плохо? Может, тебя товарищ Ревматизкин закрутил? Так мы, как говорится, мигом раскрутим!
И лап, лап меня за плечо. Ладится поднять.
Скинула я руку с плеча, смотрю, а радетель-то мой длинноволосик, интеллиго при очках. Посмотрела я на него не без внимательности, хмыкнула:
«Поглядел дурак на дурака да и плюнул: эка-де невидалища!»
А в голос сказала, – а сама кошусь на его ручищу с кусточками тёмного волоса на пальцах:
– Здоров распускать оглобельки…
Повёл малый плечом, как скалой, спросил громко уже девчушечку:
– А чем сейчас занимается ваша Соколова?
Ненароком насмелилась я, даже голову потянула вбок, согнала белый бумажный платок с одного уха. Пускай, думаю, на воле побудет и – всё слышней. «А, ну-ну?…»
– Марьяна Михална, – отвечала девчушечка, – сейчас на пенсии уже. Но знатную трактористку не забыли. В районе учреждён приз имени Соколовой. Этот приз сама Марьяна Михайловна каждую осень вручает здесь, у памятника, лучшему свекловоду, Здесь же, у памятника, на посвящениях в хлеборобы Марьяна Михална принимает от молодых присягу на верность земле, хлебу. Напутствует добрым материнским словом… И хотя Марьяна Михална на пенсии, а каждую весну в своём хозяйстве прокладывает первую борозду. Это уже там такая традиция: первую борозду прокладывает самый почётный, самый уважаемый человек. Только потом выходят в поле другие.
Волосатик жизнерадостно выставил у меня перед носом большой палец.
– Во! Учись, бабушенция! Смотри, какая у людей пер-во-раз-ряд-ная старость! А ты что?…
Он недосказал, что же я, уступил голосу девушки.
Девушка показывала на тот бок площади, где стояла районная красная доска. Говорила:
– А теперь пройдёмте к галерее наших передовиков. Открывается галерея портретом Марьяны Михалны. Там, у портрета, я и продолжу о ней рассказ… Да, товарищи, – девчушечка законфузилась, – сегодня у меня первая экскурсия. Так что не судите, пожалуйста, строго.
– Что вы, всё о'кэй! – покрыла прочие голоса одобрения тетёха с собачонкой на руке.
Все пошли.
Я себе тоже следком почапала к молодым словам про себя. Сила у любопытства черезмерная, разобрало старую.
– Бабка! – наклонился ко мне очкарь мой пустоумник. – А ты ж с нами в автобусе не ехала. Ты не наша! Ты вообще примкнувшая! Примазалась. Ходишь тут подслушиваешь…
– Ты-то чего зудишь, шмель? Припиявился, ей-бо… Те-то что за печальность?
– А такая моя, бабуся, печаль, что ничегошенечки aх занятного для своих посиделок ты не выловишь тут. Дула б лучше в суд. Там наверняка пар десять сегодня расходится. Вот где подцепишь – с кумушками на год с походом хватит мыть чужие косточки.
Ни звука не вернула я на такие худые речи. А только покачала головой да покрепче сжала губы.
Отпала я от туристического хвоста. Стою одной одна не среди ль площади, а чего стою и не придумаю…
С той самой поры, как появились на этой площади и моя карточка на красной доске, и мой трактор на гранитной возвышенке, я норовлю стороной обежать эту площадь: я боюсь ее, если по правде…
Хочешь не хочешь, а встречайся с собой, со своими делами минулыми.
Не прошлого своего я боюсь. Я побаиваюсь отношения к нему наезжан и в особенности молодых.
Покуда про тебя рассказывают, покуда тебя на карточке с красной доски показывают – у всякого во взгляде и на языке мёд.
Когда ты при орденах говоришь с молодыми с красной трибунки, да и потом, как сойдёшь к ним, тебе всяк масляным грибом в рот заглядывает…
А по какой по такой арифметике, ёлки-коляски, молодые считают, что старый незнаемый человек только при орденах да за красным столом в цене? Невжель только в медалях да в красном сукне вся и сила почитания?
Никто из молодых не даст волю поносным словам, когда видит знакомца при старых, ветхих уже летах, имей он награды иль вовсе не имей. Но завидел где мальчуга совсем не знакомого старика иль старуху, он, кобелёк мокроносый, не прозевает своего, не упустит, в обязательности и кольнёт под момент глупо связанным словом, и пошлёт смешок. Ему незнакомый старый человек в цене не выше пустой дырявой бадейки. Сколько я с таким сшибалась лбом!
Да вон сейчас. Ему лень подумать, что это про меня могли ему сорочить. У него свой указ: «Дула б ты лучше в суд…»
А дули б тебя черти, крапивное ты семя!
Плюнула я в сердцах да и взяла шаг в свою в сторону.
Жена мужа не бьёт, а под свой нрав ведёт.
Уже у загсовой у двери меня было чуть не тукнула кукла, что приладили к передку всего в лентах «Жигулёнка».
Не успела я и испугаться, как машина стала совсем рядом, так плотно, что кукла в лёгкости малой уставилась мне в бок своими пластмассовыми розовыми ручками-ножками.
Я повернулась – в машине молодо засмеялись.
Распахнулась дверка. На землю ступила ладная девичья ножка в белой туфельке.
Вздохнула я с судорогой да и пошла за загсов порожек.
Вошла – растерялась. Залища-то что!
По одну руку сплошняком стекло до потолка, по другую – золотистая от голых, без штукатурки, кирпичин стена. В стене пропасть роскошных дверей. Эта на регистрацию. Эта на вручение. Эта на банкет уже…
Ознакомительная версия.