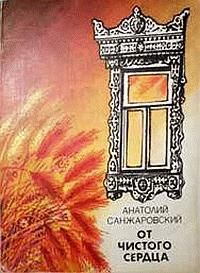Ознакомительная версия.
Вздохнула я с судорогой да и пошла за загсов порожек.
Вошла – растерялась. Залища-то что!
По одну руку сплошняком стекло до потолка, по другую – золотистая от голых, без штукатурки, кирпичин стена. В стене пропасть роскошных дверей. Эта на регистрацию. Эта на вручение. Эта на банкет уже…
В зале светло от нарядов невест.
Все держатся всё больше кучками.
Одни стоят, другие посиживают в мягких креселках при низких столиках. Все в живости говорят, улыбаются.
Разом всё, точно по команде, замолкло, с невозможным интересом смотрит, как в торжестве великом расходится на две стороны широкая красного дерева дверь банкетного зала и оттуда тесно высыпается развесёлая уже братия.
Невеста гренадерского роста, самая высокая и круглая из всех, кто был в наличности в той толпе, при всём параде выступает державно; в движении её, во взгляде, в каждой складке платья – во всем живёт необоримая, безмерная власть, и каким-то потешным придатком к ней кажется посоловелый жених, худее, ей-право, спицы, небогатый росточком. Жених виновато и преданно уткнул голову в просторное её перинное плечо.
Невеста – конец её тёмного парчового платья с зелёными розами несли куклята, мальчик с девочкой, – ласково ударила сморенного жениха тяжёлым привялым пучком белых роз.
– Сашу-уля-а-а!.. Вернись в форму А!…
Жених смело попробовал самостоятельно нести свою голову. И хотя это стоило ему немалых трудов, он все ж добросовестно наскрёб в себе сил ещё и на то, чтоб мелко-мелко потрясти головой, что предположительно могло означать неудержимую страсть подравнять, подправить впечатление и придать твёрдости, силы своему шагу и духу; однако, на беду, из этой затеи ничего стоящего так и не проклюнулось, отчего жених вовсе смяк, как-то в момент сник – ну прямо невзначай сронил себе голову на грудь и как теперь ни бейся, не мог её поднять.
Зато в «Волгу» (у этой пары свадебный поезд из трёх голубых «Волг») он не сел, а как-то по-особому легко, дивно, как с откоса в глубынь-речку, нырнул, выкинув вперёд согнутые в локтях и сложенные вместе, ладонь к ладони, руки, и все вокруг хорошо засмеялись.
Заняла я себе очередь у двери с дощечкой «Приём граждан только по вопросам регистрации брака», села в креслице. Оглядываюсь.
О! Вон входят артисты, что чуть было не смяли меня.
Попереди усач лет так уже на сорок котовато ведёт под руку ладную такую хорошаточку. А что там молода – невозможно и словами сложить.
В самый раз попаду, скажи только я, что она вдвое бедней годами против усача.
Идет-поспешает усач, на все боки плещет масло клейкой улыбки, а сам говорит, говорит – в большом достоинстве держит голову, не забывает на народе любоваться собой.
На первые же глаза не понравилась мне его вызывающая, немужеская красота, какая-то картинная, приманчивая, липучая, что ли, точно бумажка для мух и в то же время какая-то такая, какую не примешь всю, до донышка, разом без оглядки: было в ней что-то такое подспудное, потаенно-скользкое, будто напорошило пустым снегом лёд.
Взяли они за мной очередь. Сели.
Усач, этот Сахар Медович, громко, нáполно на публику, и говорит любушке своей:
– Сверим, киска, наши часы. На моих четыре.
– На моих тоже.
– Пожалуй, к пяти обзаконимся… Представляешь, гусариха, через час мы муж и жена!
– Не исключено. – Девушка делает глазки.
– Кстати, о птичках… Напоминаю, долг джентльмена обязывает… Я иду венчаться в четвертый раз. Так что без претензий потом.
– Без претензий, Григорио. Без претензий!
Девчушка жмётся к усачу, целует в ямку под ухом.
Ну-у, тут моим негаданным подглядкам пришёл великий пост.
Пустила я глаза по залу в проходку, дрогнула: в тяжёлой девоньке с белой розой в волосах увидала я что-то от себя давнишней.
Смотрю, с какой судорогой она, оробелая, вся – один перепуг, косится на своего пригожего, что сидел в отдальке от всех своих, будто на суде, защемило у меня в груди.
«Эх, дитя, дитя, не будет у тебя путя…»
Тут на весь зал зашипел динамик в стене. Оттуда, сверху, ясный голос позвал:
– Деноткины!
Все: и тоненький, высоконький жених-красавец, и не удавшаяся ни лицом, ни ростом невеста, и их свита – разом задвигали креслами и не то что скоро пошли – кинулись в срыве на бег к раскрываемой навстречу двери, от которой тёк рдяный ковёр в глубь просторной комнаты, где за столом в кумаче я рассмотрела полнотелую тётку с пурпуровой лентой наискоску.
До странности всё было врозь: жених сам по себе, за ним в шаге каком с грехом пополам поспешала невеста с ношею (на сносях) и уже потом крепкой подковой двигалась свита.
Свита не толпилась на задах у молодых, как это водится, а, напротив, в мгновение, когда все едва повскакали со своих мест, растянулась в заранее сговоренную цепь полукругом; теперь в этой надёжной броне, что обтекала молодых с тыла, в первом ряду шествовали мужики; ближе к краям дядьки были поядрёней и на самых концах в степенстве выступали уже дюжие, утёсистые гренадеры при чёрных бабочках.
– Это чоб не сбёг, – жалливо предположила старушка рядом. – Неуж думают, регистрированная бумажка сложит семью? Ну, нашкодил, ну набедокурил по неразумению мальчонка… А оне нет чоб подобру отпустить – с кем грех не живёт? – ишь, безо всякой на то малой пощады всем королевским кагалом гонят тепере утравленного волчонка в ту клетуху. – Старушка уныло смотрит в открытую дверь на красный ковёр, на красный стол, на женщину с алой лентой наискоску. – А он, сердешный, красного цвета, видно, не переваривает.
– Кто? – обходительно спросил маленький старичок, впрочем, как я поняла из разговора, ещё незаконный муж старушки.
– Да и мальчонка и волчонок. Оба не выносят.
Вот ясновидиха!
Отпустила она только эти слова – жених резко повороти (я ещё раз увидала красивое в кручине лицо) и с отчаянной, бедовой решимостью забрал нарочито вправо, в соседнюю распахнутую дверь. В банкетный зал.
– Не туда! Не туда! Не туда!.. – сыпал от стены дробненький парнишка с фотоаппаратом у верха лица. – Вот сюда пожалуйте! – повёл локтем к двери с ковром. – Та-ак… хо-ро-шо… Товарищ жених… с-секундочку… Сделайте мину любви к ближней. Я о невесте говорю!.. И возьмите ж под руку! Снимаю!
Жених дёрнул острым плечишком, держит всё так же и прежнюю быстроту, и прежнюю дистанцию.
Фотограф отвёл свою пушку вбок.
– Товарищ жених! Тут вообще-то не пожар. Я не могу в таких условиях работать. А ваши, между прочим, заказали именно этот момент!
– Вот и щёлкайте, между прочим, того, кто заказывал! – поравнялся с фотографом жених.
– Володя! Володя! – в большом гневе, шалея, глухо рокотал крайний из цепи дядя достань птичку. – Ты что, совсем внагляк оглох? Отца родного не слышишь?! Сейчас же возьми мне Марину!
Володя припустил ещё прытче.
Уже на порожке его поймал за спичечно-тонкое запястье отпавший от цепи все тот же мужик-угол, что кричал-коноводил, подержал, покуда не добрела Марина, и державно вложил в бледную растерянную женихову руку дроглый голый, синеватый локоток невесты.
В свите вздохнули.
За свитою стала закрываться дверь.
Могучие половинки торжественно сошлись и тоже, кажется, охнули.
Ох, и чего только тут не насмотришься, и каких только нëбылей не наслушаешься!..
Ну, вот у двух молодых пар не явились свидетели. А молодым уже идти. Одна пара и маслится к другой:
– Поступило предложение сходить на маленький компромисс… Сначала вы побудете у нас за свидетелей, раз нам первыми идти, а потом мы у вас, и все мы – в законе. Так сказать, к закону через маленькое незаконие.
Старая пара, за кем я была, всё глядела да подсмеивалась. А потом, как молодые пошли на регистрацию, быстрый на язык старичок с орденком и скажи мне:
– А нельзя ли к вам с просьбицей постучаться?
– Слушаю.
– Мы её, – взгляд на дверь, куда все сидим, – русским языком просили. Ну дайте нам пятнадцать суток, нам сполна хватит этого срока на испытание наших чувств. Мы ж жизнь вместе прожили! И потом, нам вовсе не рука ждать: за нас на том свете уже пенсию получают. Нет, говорит, я вас прекрасно понимаю, я верю, срок вы наверняка выдержите, но кроме сочувствия ничего существенного предложить не могу. Брачующихся, говорит, много, просто гибель, осталось одно окошко и то через полтора месяца только. «Ладно, записывайте», – и пошли мы с кнутиком домой. Покуда тянулись эти полтора месяца, хорошая наша знакомица, кого мы метили в свидетельницы, померла. Идти к соседям мы не пошли. Никто из соседей не знал, что мы в официальном разводе…
– Постойте. Я что-то не пойму…
– А вы думаете, нам с хозяйкой все понятно в нашей жизни? К вашему сведению, мы уже раз расписывались, – взгляд на старушку, она кивнула в согласии, – когда нам было по двадцать. Детей у нас не было, жили мы дай Бог всем так жить. Мнения наши и желания всегда были едины. Как-то нас обоих, – без обиды! – укусила одна и та же муха, вследствие чего мы единогласно решили развестись. Загсу что? Загс, пожалуйста. Развёл. Прямо из загса (дело было летом) на дачу на своём самокате, как я называю «Москвич», интеллигентно, понимаете, на прощанье отдохнули и только утром, собираясь на службу, я вспомнил, что мы в разводе, когда наткнулся в костюме на вчера полученное свидетельство, и сказал Вареньке, что нам надо жить как-то иначе, поскольку мы теперь чужие. Но иначе мы уже не могли, иначе у нас не получалось просто. Каким орлом кинулся я увиваться за своей Варенькой! В лучшую пору досемейной молодости не ухаживал так! Варенька тоже так посчитала. Вскоре я, человек крайне осторожный и проницательный, сделал Вареньке второе предложение. Когда женишься на своей бывшей жене, по крайней мере, знаешь, на что идешь! Варенька такого же мнения обо мне. Мнения наши всегда совпадали. Мы решили снова расписаться. Лет двадцать собирались в загс. Наконец выбрались, отнесли заявку – померла свидетельница. К соседям не пошли. Никто не знал, что мы, хоть и жили вместе, но были в официальном разводе. А тут доложи… На чужой роток не пуговицу нашить… Пересуды пойдут… Ну на что нам такой навар? Уж лучше попросить кого из незнакомых, со стороны. Не выручите ли вы?
Ознакомительная версия.