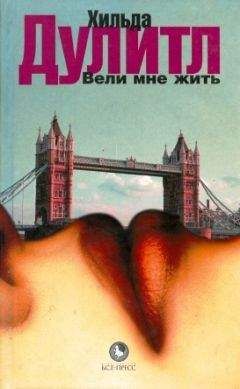— Если я не вернусь, — услышала она те же слова, только сказаны они были совсем другим тоном, — или если я вернусь… Послушай, ты любишь Фредерика?
Люблю ли я Рико? Люблю ли я Фредерико? Старину Рико?
— Нет, об этом нет и речи. Он вдохновляет, он питает ум. Берёт — и возвращает.
— А я — разве я не возвращал?
— О да, — сполна. Хотя нет, — не сполна. Никто никому ничего не даёт сполна. По-моему, ты забыл о Морган.
— Я всегда думал, что тебе нравится Фе — она, во всяком случае, от тебя в восторге.
— Да, вот и Рико говорит то же самое. Помню, он сказал мне: «Похоже, тебя очень ценит Морган Ле Фе». Ну что же, Морган…
Признаться, вот уж о ком ей меньше всего хотелось сейчас говорить.
Она никогда не решилась бы сказать Рейфу, что именно с этой особы всё и началось: это Морган взяла привычку приходить к ним не спросясь, оставаться на ночь, бросаться в избытке чувств Рейфу на шею. Белла поступает точно так же, но она, злодейка, по крайней мере, не хитрит, делает всё в открытую, а Морган юлит и лукавит, вообще непонятно, чего она хочет, чуть не в любви мне объясняется. С Беллой же всё ясно. Она меня сразу вычеркнула — я не в счёт. Её принцип «всё или ничего» не оставляет никаких сомнений, тебе чётко дают понять, как обстоит дело. Во всяком случае, когда он наверху у Беллы, ты можешь быть уверена… — а вот когда он с Морган… Впрочем, не будем о Морган.
Её вкрадчивая манера заставила Джулию ощутить вязкость опутавших её, словно паутиной, изощрённых любовных переживаний и стряхнуть их с себя, как наваждение, как сон. «По-моему, иметь любовницу — это так чудесно», — когда, при каких обстоятельствах услышала она эти откровения от Морган? Нравятся тебе женщины, — пожалуйста, люби женщин, но не используй их, а ведь Морган своих подруг именно использовала, — так, во всяком случае, казалось Джулии. Она пользовалась ими, чтобы лишний раз пощекотать себе нервы; испытать непривычное возбуждение, на самом деле не отдавая отчёта в своих намерениях, стремясь накрыть всех подряд волной своих длинных распущенных белокурых волос, занавеситься crêpe de chine,[7] окутать ароматом «Миль флёр», — Джулия уловила запах этих духов на рукаве Рейфа, когда Беллы и близко не было. К этим «атакам» Джулия относилась спокойно: она часто видела, как Морган висла у Рейфа на шее, повторяя: «Милый, как жаль, что меня по-настоящему волнуют только женщины».
— А причём здесь вообще Морган?
— Да ни при чём, — отозвалась Джулия, и тут только вспомнила, что это Морган первая ей сообщила: «Знаешь, а ты нравишься Рико».
Вначале всё шло нормально. И только постепенно, по мере того как всё ближе и ближе подбиралась война, поглощая тебя всю, без остатка, она осознала, как напряглась до предела, грозя порваться, нить, связующая душу и тело. Ей стало страшно, она попыталась настроиться на другую волну — ту, где она могла хранить в себе образ. И получилось так, что образ этот, талисман, воплотился в Рико. Да, верно, она любила его, только любовь эта существовала в другом измерении, помимо тела, — в мыслях, в мечтах: как там у Рико в письме? — «ты в плену собственных грёз».
Но сейчас она не грезила — перед ней стояла суровая действительность.
— Ты спрашиваешь, люблю ли я Рико? Да. То есть нет. Как так? Очень просто. Ты ведь знаешь, — я ждала именно тебя. Ты теперь, правда, стал другим. Давай не будем об этом. Не сейчас.
А ему хотелось выговориться. Она же ушла в свои мысли: её вспомнилось, что в тогдашних её грёзах жил и Рейф Эштон. И вот сейчас всё сошлось: грёза и реальность слились воедино. А он всё продолжал говорить. Он говорил языком, понятным им двоим, только в нынешних его словах чувствовалась какая-то цель — он не просто заполнял паузу.
— Закуришь? — Он глазами поискал спички. Как это знакомо! Даже сигареты те же самые, — она впервые попробовала их в Италии, в их первую поездку вдвоём.
— Нет, спасибо. Не хочется.
— Нет так нет, — ответил он. — Давай я заварю чай. Что сидеть и дрожать от холода? Завтра мне уезжать.
И так каждый раз: завтра, завтра, завтра. Всё та же комната, та же картина, всё так же они сидят вдвоём и пьют чай. Так было и в последний раз.
В последний или первый? Вот Белла — та никогда не сомневается: в ней есть набившие оскомину прямота, твёрдость, жёсткость. Для неё заниматься любовью — такое же дело, как всё остальное. Без глупостей. Она любила повторять: «Вот в прежние времена — и нынешние-то уже позавчерашний снег, Белла! — мужчины приглашали нас на бал или на танец, а сегодня они просто предлагают тебе переспать». Неужели? Так вот в какой мир окунулась Белла в Париже, вот в каких кругах она вращалась, — яркая хлопушка, комета с зелёным хвостом!
А ведь если верить Ивану, она студенткой приехала из Америки изучать искусство, закрепиться, встать на ноги. Жили они с матерью в небольшой квартире неподалёку от Сены, — жили весело, но совсем не так, как описывала Белла. А может, нынешняя Белла и есть настоящая? Может, это истинная её натура так развилась, выперла, выпятилась в оранжерейной обстановке, пошла куститься-колоситься разными своими «Я», пошла влюбляться напропалую под участившиеся звуки парижской шрапнели?
Джулия недалеко ушла от Беллы — тоже увлеклась, впала в крайность, только противоположную и едва ли не более опасную, чем у Беллы: мир фантазии («в плену собственных грёз», как выразился Рико), — другой конец качелей, если хотите. Их лодку раскачивал стоявший посередине Рейф Эштон: то Белла взмоет вверх, а Джулия нырнёт носом вниз, — того и гляди, слетит со своего конца, — то поменяются местами, не отрывая рук, то составят новый любовный треугольник.
Вечеринки кончились, похмелье — тоже. Больше она никого не желает видеть. В последний раз Белла с Рейфом так беззастенчиво давали всем понять, что только и ждут, чтоб улучить момент, ускользнуть и побыть наедине, мило предоставив жене прикрывать любовные шашни своего муженька на побывке. Всё. Больше этому не бывать.
Он сам сказал, что дальше так невозможно. Нельзя любить одну и желать l’autre. А если, наоборот, всё решается просто для Рейфа Эштона? «Хочу быть с Беллой» — хорошо, пожалуйста, оставайся с Беллой. А сама Белла? Едва ли женщина с её темпераментом согласиться играть в такие умозрительные любовные игры. Вначале она говорила: «Со мной всегда так, мужчины по-настоящему меня не любят, я им быстро надоедаю». Теперь она запела по-другому: «Всё или ничего. Ты духовно порабощаешь Рейфа». Так и сказала. А что ей ещё остаётся, как не идти до конца, заявляя со всей прямотой: «Всё или ничего». А Рейф повторяет: «Я сойду с ума, я разрываюсь, я люблю тебя». Что это — игра? Или правда? Сегодня ночью, во всяком случае, это похоже на правду.
А ночь как ночь: разве кто-нибудь чувствует себя ночью в полной безопасности? Она внутренне сжалась, ожидая предупредительного сигнала воздушной тревоги. Днём она казалась внешне спокойной: ещё один день прошёл, наступил другой. Но внутри, под холодной оболочкой видимого спокойствия, она чувствовала себя — как все — расстрелянной в упор, стоящей у черты. Войне не видно конца.
Она посмотрела в его сторону — он стоял у стола: он вроде похудел, стал выше, а может, ей так казалось с того места, где она сидела. И вправду, почему им не провести остаток ночи за откровенным разговором? «Я схожу с ума», — так, помнится, он сказал? Но сейчас он выглядел вполне здоровым, пусть и немного отрешённым. «Мне нужна Белла. Я хочу забыться. А ты, наоборот, заставляешь меня помнить». Что ж, хоть это в её пользу, — она поддерживает огонь, не даёт погаснуть свече на столе. Значит, есть между ними что-то живое, чему она не даёт увянуть: то ли вечнозелёные дубы, что они вместе видели в Пинцио{60}, то ли стройные византийские колонны внешнего дворика собора Св. Иоанна Латеранского{61} — точного названия она не помнит — в Риме. А, может, мраморный торс в том саду?
— Помнишь сад? — спросила она, играя в старую их игру «а помнишь?».
— Какой сад, Джулия? — Он говорил с ней ласково, как с ребёнком, точно она персонаж из сказки.
— Ну, помнишь, сад за музеем? Там ещё была плита с великолепной статуей застывшей фурии?
— Ах, эта — работы Микеланджело, — вспомнил он, и она поняла, что он всё помнит, ничего не забыл, и будет помнить всегда.
— Ну, да, Микеланджело, конечно. Как я могла забыть? Фурия — это так… — она не закончила фразу, но он понял её с полуслова. — Помнишь, нас так и тянуло дотронуться до торса кончиками пальцев — говорят, так делал Микеланджело, когда ослеп.
Да, так и вышло — их пальцам передалось прикосновение мастера. В их плоть вошла живая красота — они прониклись чувством прекрасного. Целые города стёрты с лица земли. Сколько людей расстреляно, и нет этому конца. А их двоих по-прежнему что-то связывает.