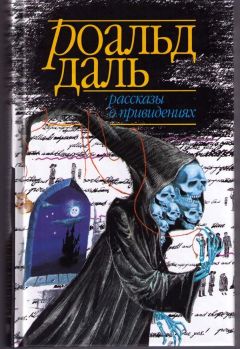Она замолчала.
— Пожалуйста, продолжайте, — попросил я.
— В его жизни было три случая, когда ему удалось всего за несколько шиллингов купить необычайно ценные вещи, Только в отличие от вас он знал, что покупал. Баснословная прибыль от их продажи не стала для него неожиданностью. В отличие от вас он не посчитал своим долгом выплатить компенсацию людям, которые даже понятия не имели, что отдали за бесценок настоящее сокровище. В конце концов, большинство коммерсантов тоже не стали бы об этом задумываться, не так ли? — оборонительно спросила она. — Итак, отец становился все богаче и богаче… Несколько лет спустя он познакомился с тем священником, и в нем стала развиваться своего рода… э-э-э… болезнь. Он стал думать, что в основе нашего состояния лежат сделки, которые ничуть не лучше воровства. Горько раскаивался в том, что воспользовался неосведомленностью тех троих людей. К несчастью, ему удалось выяснить, что в дальнейшем произошло с каждым из тех, кого он называл своими „жертвами“. Как это ни ужасно, но все трое умерли в нищете. Это открытие повергло его в страшную печаль. Двое умерли, не оставив после себя детей, поэтому отец не смог исправить положение, поскольку не нашел никаких родственников.
Сына третьего человека он нашел в Америке: но тот тоже умер, не оставив семьи. Так что моему несчастному отцу не удалось загладить вину. Он только об этом и думал — как загладить свою вину. Мысль о неудаче терзала его до тех пор, пока он окончательно не лишился рассудка. Все глубже и глубже окунаясь в религию, он вбил себе в голову странную идею — она стала для него настоящим наваждением. „Если я дам кому-нибудь возможность совершить хороший поступок, — говорил он, — я как будто бы сам его совершу. Христа распяли за наши грехи. Я трижды согрешил против него, поэтому должен сделать так, чтобы благодаря мне кто-то совершил три хороших поступка, которые уравновесят мои собственные грехи. Только так я смогу искупить свои преступления перед Христом, потому что мои деяния — преступление“.
Мы спорили с ним, пытались убедить его, что практически каждый на его месте поступил бы подобным образом. Все было напрасно. „Другие пусть судят себя сами. Я-то знаю, что поступал скверно“, — стонал он. Идея искупления становилась все более навязчивой. Она превратилась у него в настоящую манию!
Он решил найти троих человек, которые своими хорошими деяниями смягчат ту боль, которую его „три преступления“ — как он их называл — причинили Богу, и принялся разыскивать дорогие и обязательно невзрачного вида произведения искусства, которые предлагал за несколько шиллингов.
Бедный мой отец! Я никогда не забуду его радость, когда один человек вернул вазу, которую купил за пять шиллингов, а потом обнаружил, что она стоит шестьсот фунтов. „Вы, наверное, ошиблись“, — заявил тот человек. Точно так же, как вы, благослови вас Бог!
Пять лет спустя произошло еще одно подобное событие. Господи, как счастлив он был! Ему удалось уравновесить два преступления — он искупил две трети своих грехов!
Затем последовали долгие годы мучительных разочарований. „Не будет мне покоя никогда. Нет, нет и нет — до тех пор, пока я не найду третьего“, — говорил он.
На этом месте своего рассказа девушка заплакала. Закрыв лицо руками, она пробормотала:
— Ах, если бы только вы пришли раньше!
Я услышал мелодичное позвякиванье колокольчиков.
— Как он, должно быть, страдал! — сказал я. — Я рад, что мне посчастливилось быть третьим. Теперь он доволен?
Она опустила руки и непонимающе уставилась на меня. Я услышал звуки приближающихся шагов.
Замечательно будет встретиться с ним снова, — улыбнулся я.
— Встретиться с ним? — изумленно повторила она. Шаги становились все ближе.
— Да. Я ведь могу остаться и увидеться с вашим отцом? Я слышал, как ваша сестра сказала, что он скоро придет.
— А, теперь понятно! — воскликнула она. — Вы имеете в виду отца Бесси! Но мы с Бесси всего лишь сводные сестры. Мой несчастный отец умер много лет назад.
— Это всего лишь условность, — бодрым голосом заявил Энтони Карлинг, — причем не слишком убедительная. Подумаешь, время! В действительности никакого Времени нет; оно просто не существует. Время — это не более чем мельчайшая точка в вечности, так же как пространство — мельчайшая частица бесконечности. Время представляет собой нечто вроде туннеля, по которому мы, как принято думать, двигаемся. В наших ушах стоит гул, в глазах — темнота, поэтому он кажется нам реальным. Но перед тем как зайти в туннель, мы целую вечность жили в бесконечном солнечном свете — и после выхода из него вновь окажемся в солнечном пространстве. Так стоит ли нам волноваться из-за неразберихи, шума и темноты, если через мгновение мы оставим их позади?
Энтони изредка прерывал свои рассуждения и энергично помешивал кочергой поленья в камине, из которого летели яркие искры и вспыхивали огоньки пламени.
Для убежденного сторонника столь неизмеримых понятий Энтони обладал хорошим чувством меры и вкуса, и я не знаю другого человека, который бы любил жизнь и все ее радости так, как он. В этот вечер он угостил нас изумительным ужином, подал к столу великолепный портвейн, и мы чудесно провели время, озаряемые светом его заразительного оптимизма. Вскоре наша небольшая компания разошлась по домам, и мы с ним остались одни у камина в его кабинете. С неба сыпалась снежная крупа, громко стуча по оконному стеклу и заглушая потрескивание огня в камине, и при мысли о пронизывающем ветре и заснеженной мостовой на Бромптон-сквер, по которой торопливо спешил к буксовавшим такси последний из гостей, я блаженно улыбался — ведь я остаюсь здесь, в тепле и уюте. А самое главное — рядом будет этот будоражащий разум, заставляющий думать собеседник, который о чем бы ни говорил — будь то абстрактные понятия, которые для него абсолютно реальны, или удивительные случаи, с которыми он сталкивался в условностях времени и пространства, — всегда вызывал интерес у слушателя.
— Я обожаю жизнь, — сказал он. — Считаю ее самой увлекательной игрушкой. Это восхитительная игра, а как тебе хорошо известно, для того, чтобы игра была интересной, нужно относиться к ней чрезвычайно серьезно. Ты должен понимать, что это игра, но вести себя так, будто она — единственная цель твоего существования. Мне бы хотелось играть еще долго-долго. Но при этом надо также жить в истинной плоскости, то есть в вечности и бесконечности. Если задуматься, человеческий разум не способен постичь именно границу, а не безграничность, временное, а не вечное.
— Звучит несколько парадоксально, — заметил я.
— Только потому, что ты привык думать об ограниченных вещах. Взгляни на все открытыми глазами. Попытайся представить границу Времени и Пространства, и ты поймешь, что не можешь этого сделать. Отсчитай миллион лет назад и умножь этот миллион на еще один миллион, и ты увидишь, что не можешь представить себе начало. Что было до этого начала? Еще одно начало и еще одно? А до этого? Взгляни на проблему с такой стороны, и ты поймешь, что единственным решением, которое ты способен постичь, является существование Вечности, то есть некоего понятия, которое никогда не начиналось и никогда не кончится. То же самое относится и к пространству. Перенесись мысленно на самую далекую звезду и подумай, что находится за ней. Пустота? Пойди дальше, протолкнись сквозь эту пустоту, и ты не сможешь представить себе ее границы и конца. Она никогда не кончится: вот что ты должен понять. Таких понятий, как „до“ или „после“, „начало“ или „конец“, не существует — и это замечательно! Я бы терзался до самой смерти, если бы не знал, что смогу преклонить го — лову на огромную мягкую подушку Вечности. Некоторые люди утверждают — по-моему, я слышал это и от тебя — что вечность ужасно утомительна; в какой-то момент захочется остановиться. Но ты так считаешь, потому что думаешь о Вечности как о категории времени и в твоей голове крутится мысль: „А потом, а потом?“ Неужели ты не понимаешь, что в Вечности нет никакого „потом“ и никакого „до“ тоже? Все сливается в одно целое. Вечность — это не количество — это качество.
Время от времени, когда Энтони говорит подобным образом, мне удается ухватить мысль, которая кажется ему совершенно очеввдной и абсолютно реальной, а иногда (поскольку мой мозг не всегда готов к восприятию абстрактных понятий) у меня возникает ощущение, будто он толкает меня к краю обрыва, и в таких случаях мой разум жадно цепляется за что-нибудь осязаемое или постижимое. Сейчас был как раз такой случай, и я поспешно прервал его рассуждения.
— Но „до“ и „после“ существуют, — не согласился я. — Несколько часов назад ты угощал нас изумительным ужином, а после него — да, после — мы играли в бридж. Сейчас ты пытаешься объяснить мне некоторые вещи, а потом я отправлюсь спать…