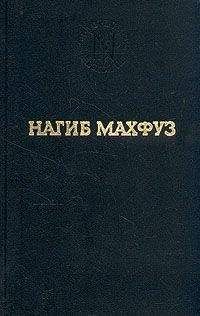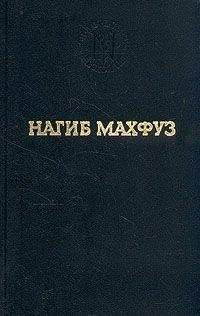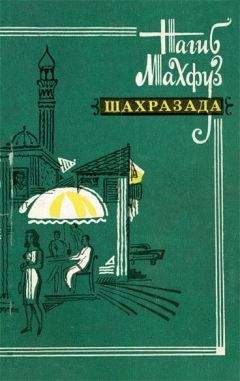Hyp позвала его в спальню, и он покорно пошел, удивляясь, как это она принесла ему все новости, а сама до сих пор ничего не знает. Увидел стол, ломившийся от еды,– Hyp не поскупилась – и почувствовал, как сильно он проголодался. Сел рядом с ней на тахту и ласково потрепал ее по мокрым волосам.
– Вот это, я понимаю, женщина! Не чета другим… Она повязала голову красной косынкой и принялась разливать вино в бокалы, все время улыбаясь его словам. Освеженная купанием, как человек, отведавший простой, но здоровой пищи, смуглая теперь уже без следов косметики на лице, – гордая от сознания, что он наконец с ней, хотя бы и ненадолго, она сидела рядом, спокойная, умиротворенная, и на душе у него тоже стало спокойно и бездумно.
– И это говоришь ты? – Она бросила на него недоверчивый взгляд.– Я иногда думаю, что скорее можно дождаться милости от полиции, чем от тебя…
– Да нет же, я правда по-настоящему доволен, что я с тобой…
– Честное слово?
– Можешь мне поверить. Твоя доброта обезоруживает…
– Так почему же она не обезоруживала тебя прежде? Да, видно, победа, одержанная без труда, не способна вытравить из памяти горечь поражения.
– Раньше? Раньше у меня не было сердца. – А теперь?
Он поднял свой бокал.
– Давай-ка лучше выпьем…
Они с удовольствием принялись за еду.
– Ну а что ты без меня делал? – спросила Hyp. Он повертел куриную косточку в тарелке с соусом.
– Сидел в потемках, смотрел на могилы… У тебя кто-нибудь здесь похоронен?
– Нет, мои все на кладбище в Блина… Помолчали. Hyp, гремя тарелками, принялась убирать со стола.
– Я вот тебя о чем хотел попросить, – заговорил он. Купи-ка мне материи на офицерский мундир.
– Зачем?
– А я в тюрьме научился шить, разве ты не знаешь?
– Ну а мундир тебе зачем? – В голосе ее звучала тревога.
– Считай, что меня призывают…
– Ты что, не понимаешь? Я не хочу потерять тебя снова.
– За меня бояться нечего,– сказал он и сам удивился своей уверенности.– Если б не предатель, они бы меня и тогда не схватили.
Она только вздохнула.
– Ну хорошо,– сквозь зубы процедил он,– а разве тебе самой никогда ничто не угрожает? – И улыбнулся: – Ну, например, какой-нибудь бандит в пустыне?
Она не удержалась от смеха. Потом прижалась, поцеловала.
– Пожалуй, ты прав! Чтобы жить, надо забыть о страхе.
Он кивнул головой на окно: – И даже о смерти?
– Ой, что ты говоришь? – испуганно воскликнула она, но тут же задорно добавила: – А вообще-то я и о ней забываю, когда судьба сводит меня с тем, кого я люблю.
И он снова с удивлением подумал, какое у нее большое и горячее сердце, и поразился ее упорству, и почувствовал к ней признательность и жалость.
…Около лампы, не прикрытой абажуром, кружилась ночная бабочка.
Дня не проходит, чтобы кладбище не принимало новых постояльцев. Можно подумать, весь смысл жизни для тебя теперь в том, чтобы прятаться за жалюзи и подглядывать за этой ни на миг не прекращающейся упорной работой смерти. Но если кто действительно заслуживает жалости, так это те, что провожают покойников. Приходят толпами, плачут, а похоронив, глядишь, уже утерли слезы, болтают как ни в чем не бывало. Должно быть, какая-то сила, более могучая, чем смерть, убеждает их, что надо жить дальше. Вот так же хоронили и твоих близких. И отца твоего. Добрый старый Махран, сторож в студенческом общежитии… Честный и неприхотливый работяга. С малых лет ты помогал ему в работе, и хоть жили вы бедно и трудно, но каждый вечер, бывало, кончался счастливым отдыхом в маленькой лачуге с земляным полом, что стояла во дворе общежития. Отец с матерью мирно беседуют, а ты играешь. Отец был набожным человеком, и вера учила его не роптать на жизнь. Студенты его уважали. Единственным домом, куда он ходил, был дом шейха Али Гунеди. Он-то и показал тебе туда дорогу. «Пойдем со мной. Саид, я отведу тебя туда, где ты забудешь про свои глупые игры и поймешь, как сладка жизнь, освященная небесной благодатью, и сердце твое обретет покой, а сердечный покой – это редкий дар». Шейх ласково поглядел на тебя, а ты бесконечно удивился его белоснежно-седой бороде. А потом он сказал отцу: «Так вот он, твой сын, о котором ты мне говорил? Глаза у него смышленые, а сердце доброе. Иншалла[5], хорошим будет человеком». И тебе очень понравился шейх Али Гунеди, понравилось его красивое лицо и добрые лучистые глаза. И еще тебе понравились молитвенные песнопения, нашедшие отклик в твоем сердце, еще не тронутом любовью… И однажды Махран сказал шейху: «Научи этого малого уму– разуму», и шейх, наклонившись, внимательно заглянул тебе в глаза и сказал: «Мы учимся всю жизнь, но ты начни с того, что научись строго относиться к самому себе. И пусть все, что ты делаешь, будет на пользу под ям». И ты честно старался следовать его совету, но тебе это окончательно удалось, только когда ты стал настоящим вором. Дни летели незаметно, и однажды Махрана, отца твоего, вдруг не стало. Ты был тогда еще мал и не мог понять, что такое смерть. Да вряд ли и сам шейх Али Гунеди мог бы объяснить тебе ее загадку. «Горе нам, горе… умер твой отец…» – причитала и вопи-ла мать, а ты тряс головой и спросонья тер глаза, разбуженный посреди ночи ее криком в каморке с земляным полом. И плакал, понимая свое бессилие. Вот тогда-то и проявилось благородство Payфа Альвана, студента с юридического факультета. Он во всем был благороден, и ты любил его так же, как и шейха Али Гунеди. а может, даже больше. Его хлопотами тебя взяли сторожем вместо покойного отца, вернее, взяли вас с матерью. И ты, совсем еще мальчишка, начал работать и приносить деньги в дом. А потом не стало и матери. И Рауф Альван, конечно, помнит, что с тобой творилось, когда она заболела, тот страшный день, когда у нее случилось кровотечение и ты кинулся в ближайшую больницу. Это была больница Сабера, стоявшая, как неприступная крепость, в роскошном саду. Ты помнишь, как вы с матерью очутились в вестибюле, который подавил тебя своим великолепием. Казалось, все вокруг гнало вас прочь, но матери была необходима помощь врача, к тому же самая срочная. И тебе назвали какое-то медицинское светило – он как раз вышел в эту минуту из комнаты,– и ты со всех ног бросился к нему, бессвязно лопоча: «Там кровь… мать…» Но он только окинул стеклянным взглядом твою рубаху и сандалии, покосился на кресло, где чернела фигура матери, и, не сказав ни слова, исчез. Там еще стояла медицинская сестра-иностранка, наблюдавшая всю эту сцену, и она подошла к тебе и что-то залопотала – что именно, ты не понял, но по тону ее догадался, что она тебе сочувствует. И хоть был ты мал, но разозлился, как взрослый, и разразился проклятьями и бранью, схватил стул, швырнул его об пол, сломал спинку. На шум сбежались служители, и через секунду вы с матерью уже были на улице, под деревьями. А через месяц после этого мать умерла в госпитале Каср аль-Айни[6]. Умирая, она все держала тебя за руку и не сводила с тебя глаз. А еще через месяц ты совершил кражу, первую кражу в своей жизни. Обокрал одного студента в общежитии. Он догадался, что это ты, но доказать не мог и в злобе накинулся на тебя с кулаками. Но тут появился Рауф Альван, вырвал тебя из его лап и мигом все уладил. Нет, он все-таки был человеком, Рауф, и даже больше – он был твоим учителем. Когда вы остались с ним одни, он тебе сказал: «Не волнуйся, я-то, во всяком случае, считаю, что подобные кражи абсолютно справедливы.– Но тут же добавил: – Только помни, что полиция будет, вечно у тебя на хвосте. И какие бы убедительные доводы в свою защиту ты ни приводил, судья будет к тебе беспощаден. Ведь он тоже защищает себя. Но, в сущности, разве это не справедливо, когда ты крадешь, чтобы вернуть себе то, что было украдено у тебя другими? Разве это справедливо, что я должен учиться вдали от своей семьи и каждый день терпеть лишения, голод и муки?..» Куда же девалась теперь твоя былая мудрость, Рауф? Ее нет. Умерла, как у мер ли мои отец и мать, как умерла верность моей жены.
А потом тебе пришлось оставить работу в студенческом общежитии и искать себе заработок в другом месте. И ты стоял и ждал Набавит возле одинокой пальмы на краю поля, а когда она появилась, бросился к ней и сказал: не бойся, я должен тебе кое-что сказать, я уезжаю, я должен найти себе хороший заработок. И еще сказал: я тебя люблю, не забывай меня, я люблю тебя, и буду всегда любить, и сумею сделать тебя счастливой, и у нас будет богатый дом… В те далекие дни огорчения легко забывались, обиды прощались, и все казалось простым и легким. А вы, могилы, у топающие во мраке, не смейтесь над моими воспоминаниями…
Он поднялся и сказал в темноту, обращаясь к Рауфу Альвану так, будто видел его перед собой.
– Если бы ты, мерзавец, взял меня к себе в газету редактором, я бы напечатал свои мемуары и от твоего фальшивого блеска не осталось бы и следа…
И, помолчав немного, вслух спросил самого себя: