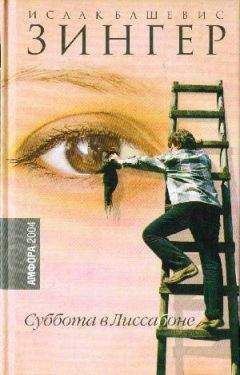Из синагоги Берл приносил время от времени поразительные новости. В Варшаве какие-то люди — их называют забастовщики — требуют, чтобы царя больше не было. А какой-то безбожник — его зовут доктор Герцль — носится с идеей, что всем евреям надо снова переселиться в Палестину. Берлиха слушала, качала головой, и оборки колыхались на ее чепце. Лицо у нее теперь было желтое, изрезанное морщинами, будто капустный лист. Под глазами мешки и голубые тени. Она уже плохо слышала. Берлу приходилось по нескольку раз повторять каждое слово. В ответ она всегда говорила одно: «Ну, такое только в большом городе может быть!»
Здесь, в Ленчине, ничего не происходило. Только самые обычные события: корова родила теленка, в молодой семье зовут гостей в день обрезания. А если родилась девочка, то торжества не будет. Случалось, умирал кто-нибудь. В Ленчине не было кладбища, и покойника везли в Закрочим. В сущности, в Ленчине почти не осталось молодежи. Дети вырастали и уезжали в Закрочим, в Новый Двор, в Варшаву. А иногда далее в Америку, как их Шмуль. Присылали письма, но ничего там было не разобрать. Потому что, как и в письмах их сына, идиш был смешан с языками тех стран, где они жили. Они присылали фотографии. На мужчинах были шляпы с высокой тульей, а женщины — в нарядных платьях, как благородные.
Берл с Берлихой тоже получали фотографии. Но они уже плохо видели, очков у них не было — ни у него, ни у нее, и они едва могли разобрать, что там на картинке. У Шмуля родились сыновья и дочери — и внуки были, тоже уже женатые и с детьми. У детей были нееврейские имена, и нет ничего странного в том, что Берл и Берлиха не могли их запомнить. Но какая разница? Разве в именах дело? Америка далеко, надо плыть через океан, это на самом краю света. Учитель Талмуда, который приходит в Ленчин, говорил, будто американцы ходят вниз головой и ногами вверх. Берл с Берлихой не могли вообразить такое. Как это может быть? Но раз учитель говорит, значит, так оно и есть. Берлиха долго думала и сказала наконец: «Ко всему можно привыкнуть».
На том и порешили. Слишком много думать — последние мозги потеряешь, избави нас Господи.
Раз в пятницу утром, когда Берлиха месила тесто для субботней халы, дверь открылась и вошел какой-то важный господин. Такой высокий, что ему пришлось пригнуться, чтобы перейти через порог. На нем была бобровая шапка и пальто с мехом. За ним вошел Хаскель, извозчик из Закрочима, и внес в дом два кожаных чемодана с медными замочками. Берлиха раскрыла глаза от удивления.
Господин оглянулся и сказал Хаскелю на идиш: «Это здесь». Он достал серебряный рубль и расплатился. Извозчик попытался дать сдачу, но тот остановил:
— Не надо. Можешь идти.
Извозчик ушел, и тогда мужчина сказал:
— Мама, это я, твой сын. Твой сын Шмуль — Сэм.
Берлиха услышала его слова, и ноги у нее сразу будто отнялись. Руки были в тесте, и она так ослабела, что не могла даже поднять их. Мужчина обнял ее и поцеловал. В лоб, в обе щеки. Берлиха закудахтала как курица: «Мой сын! Мой сын!» В это время вошел Берл с охапкой дров. За ним коза. Когда Берл увидал, что какой-то важный господин целует его жену, то уронил древа и воскликнул:
— Это еще что?
Господин отпустил Берлиху и подбежал к нему, обнял:
— Отец!
Берл оцепенел и долго не мог произнести ни слова. Он хотел припомнить святые слова из «Тайч-хумеша»[21], но ничего не мог вспомнить. Тогда он спросил:
— Ты Шмуль?
— Да, отец, я Шмуль.
— Ну, тогда шалом.
Он взял руку сына и потряс ее. Он все еще не был уверен, что это правда, что его не обманывают. Ведь Шмуль не был таким высоким, таким большим и толстым, как этот человек. Но Берл напомнил себе, что Шмулю было всего лишь пятнадцать лет, когда тот уехал. Должен же он был вырасти там, в той далекой стране. Берл спросил:
— Почему ты не дал знать, что приезжаешь?
— Но разве не пришла телеграмма?
Берл не знал, что такое телеграмма. Берлиха наконец-то отскребла тесто с рук и смогла обнять сына. Он еще раз поцеловал ее и спросил:
— Мама, ты не получала телеграмму?
— Что ты говоришь? Какая телеграмма? Зачем мне телеграмма? Если я дожила, чтобы увидеть тебя, можно теперь и умереть, — проговорила она, удивляясь собственным словам.
Берл тоже удивился. Это были те самые слова, которые он сказал бы, если б вспомнил их раньше. Теперь Берл пришел в себя. Он обратился к жене:
— Пеша, можешь сделать к мясу двойной кугл на субботу.
Когда это было, чтобы Берл называл свою Берлиху по имени! Годы прошли. Обращаясь к ней, Берл говорил: «Послушай» или «Скажи». Это молодые теперь или те, кто из большого города, зовут жену по имени. Только теперь Берлиха заплакала. Желтые мутные слезы текли по ее лицу, и все было перед ней как в тумане. Потом она воскликнула: «Пятница же — надо готовиться к субботе!» Да, она должна замесить тесто, сплести халы. Для такого гостя она сделает настоящий чолнт — чтобы на всех хватило. Но короток зимний день. Надо торопиться.
Сын понял, из-за чего она так волнуется. Поэтому сказал:
— Мать, не беспокойся. Я тебе помогу.
Берлихе хотелось рассмеяться, но внезапно подступившее рыдание перехватило горло.
— Что ты такое говоришь? Упаси Господь.
Важный господин снял пальто, снял пиджак и остался в жилетке, по которой шла солидная золотая цепочка от часов, закатал рукава и пересек комнату:
— Мать, я же много лет был булочником в Нью-Йорке, — сказал он и принялся месить тесто.
— Вот оно как! Вот он приехал, мой дорогой сыночек, и теперь есть кому прочесть по мне кадиш.
Теперь она рыдала громко, взахлеб. Силы оставили ее. Захотелось прилечь. Она подошла к кровати и прямо-таки рухнула в постель.
Берл сказал:
— Ничего не поделаешь. Женщины, они женщины и есть.
И вышел в сени принести дров. Коза пристроилась у печи. Она с удивлением уставилась на этого странного человека — такого высоченного, непривычно одетого. Соседи быстро прослышали про добрые вести в доме у Берла. Как же, сын приехал! Из Америки! Они пришли поздороваться с Шмулем. Женщины принялись помогать Берлихе. Кто-то смеялся, а были и такие, что плакали. Комната быстро заполнилась народом. Стало шумно, как на свадьбе. Шмуля спрашивали: «Что нового в Америке? Как там жизнь?» — и сын Берла отвечал: «Все нормально. Все олл райт».
— Как там живется евреям?
— Всю неделю едят белый хлеб.
— И остаются евреями?
— Ну я же не гой.
После того как Берлиха произнесла благословение на свечи, отец и сын отправились в синагогу — маленькую синагогу напротив, лишь улицу перейти. Опять падал снег. Сын шел, широко шагая, и Берл предостерег его:
— Иди-ка ты помедленнее. Здесь так нельзя. В синагоге евреи распевали: «Дай нам радость…» и «Приди, жених мой…» А снег снаружи все падал и падал. Когда закончили молиться, отец и сын отправились домой. Все было занесено снегом. Только силуэты домов, контуры крыш да огоньки свечей в окошках. Шмуль сказал:
— Ничего здесь не изменилось. Все по-прежнему.
Берлиха приготовила фаршированную рыбу, куриный бульон, рисовый кугл, цимес. Берл произнес благословение над стаканом вина. Они сидели за столом, ели и пили. Иногда наступало молчание. Тогда слышно было, как поет за печкой сверчок. Шмуль много говорил, но Берл и Берлиха понимали мало. Это был уже другой идиш, и очень уж: много было в нем иностранных слов.
После трапезы Шмуль спросил:
— Отец, что ты делал с теми деньгами, что я посылал вам?
Берл поднял брови:
— Они здесь.
— И ты не положил их в банк?
— В Ленчине нет банка.
— Где же ты держал их?
Берл сказал — после некоторого колебания:
— Хоть и не позволено касаться денег в субботу, я тебе покажу.
Он пошарил за кроватью и стал доставать оттуда что-то тяжелое. Появился ботинок. Он был доверху набит соломой. Берл принялся вытаскивать солому, и Шмуль увидел, что в ботинке — золотые монеты. Он поднял его.
— Отец, так это ж целое состояние! — воскликнул он.
— Ну да.
— Почему ты не тратил их?
— А на что? У нас все есть, слава Всемогущему.
— Почему не поехал куда-нибудь? Посмотреть мир, попутешествовать…
— Куда? Зачем? Наш дом здесь.
Шмуль задавал вопрос за вопросом, но в ответ слышал одно: нам ничего не нужно. Сад, огород, корова, коза, куры вполне обеспечивали все их нужды. Сын сказал:
— Если воры прознают про деньги, вам несдобровать.
— Здесь нет воров.
— Что же будет с деньгами?
— Ты их возьмешь с собой.
Мало-помалу Берл с Берлихой привыкли к сыну и стали понимать его американский идиш. Берлиха даже слышать лучше стала. Она признала, что голос у него почти прежний, не изменился. Сын проговорил:
— Может, построить на эти деньги большую синагогу?