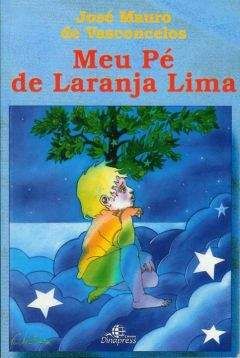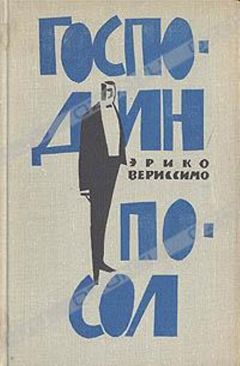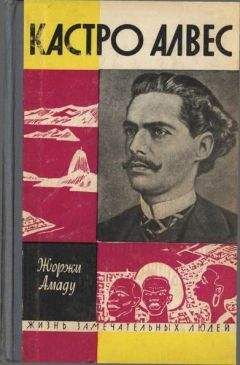— Как ты это делаешь?
— Я встаю очень рано и иду мимо сада дома Серджио. Когда калитка едва прикрыта, быстро вхожу и ворую один цветок. Там их столько, что это незаметно…
— Да, но это не хорошо. Ты не должен это делать больше никогда. Это не воровство, это мелкая кража.
— Но это не так, сеньорита. Разве мир не принадлежит Богу? И все, что есть в мире разве не Бога? Тогда и цветы тоже ЕГО…
Она застыла напуганная моей логикой.
— Только так я мог приносить вам цветок, сеньорита. В нашем доме нет сада. А цветок стоит денег…. И я не хочу, чтобы ваш письменный стол всегда стоял с пустой вазой. Она сухо сглотнула.
— А вы разве не дарите мне иногда, деньжата чтобы я купил пирожное с начинкой?..
— Я бы давала тебе каждый день, но ты исчезаешь…
— Я бы не согласился брать эти деньги каждый день.
— Почему?
— Потому что есть и другие бедные дети, которые не носят с собою обед.
— Она вытащила из сумки платочек и незаметно провела им по глазам.
— Сеньорита, вы разве не видите «Совушку»?
— Это кто?
— Та черненькая, которой мать делает на голове валики и подвязывает их бечевкой.
— Знаю, это Доротилия.
— Точно она, сеньорита. Доротилия еще беднее, чем я. И другие девочки не хотят играть с ней, потому что она черненькая и очень бедная. Поэтому она всегда сидит в углу. Я делю с ней пирожное, то, что вы мне дарите.
И тогда она застыла с платочком у носа на долгое время.
Иногда вы бы могли давать эти деньги ей, вместо меня. Ее мама стирает белье и у нее одиннадцать детей. Все еще маленькие. Диндинья, моя бабушка, каждую субботу дает ей немного фасоли и риса, что бы помочь им. И я делю свое пирожное с ней, потому что мама научила меня, что надо делить свою бедность с теми, которые еще беднее.
У нее полились слезы.
— Я не хотел чтобы вы плакали, сеньорита. Обещаю вам, что не буду больше воровать цветы и с каждым днем буду все прилежнее.
— Дело не в этом, Зезе. Иди сюда. Она взяла мои руки в свои.
— Ты пообещаешь мне, потому что у тебя чудесное сердце, Зезе.
— Я обещаю вам это, но не хочу обманывать вас, сеньорита. Я не имею чудесного сердца. Вы говорите это, потому что не знаете, какой я дома.
— Это не важно. Для меня ты имеешь чудесное сердце. Отныне и впредь я не хочу, чтобы ты приносил мне цветы. Единственно, если тебе подарят что-либо. Обещаешь мне?
— Да, я обещаю, сеньорита. Но ваза? Она всегда будет пустой?
— Она никогда не будет пустой. Каждый раз, когда я на нее посмотрю, я буду видеть в ней самый красивый цветок в мире. И буду думать, тот, кто подарил мне его, был моим лучшим учеником. Хорошо?
Сейчас она смеялась. Отпустила мои руки и сказала с нежностью:
— Теперь можешь идти, золотое сердце…
ПРОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Я увижу твою смерть в одиночке
Первое и самое полезное, чему можно научиться в школе, это дни недели. И теперь, когда я владею днями недели, то знаю, что «он» приходит по вторникам. Затем я узнал также, что в один вторник он ходит по улицам с другой стороны Вокзала, а в другой по нашей стороне.
Поэтому в этот вторник я прогулял уроки. Я не хотел, чтобы Тотока об этом узнал, а то пришлось бы платить ему некоторым количеством шариков, чтобы он дома ничего не говорил. Так как был еще рано, а он появится, когда часы на церкви покажут девять, то я решил сделать несколько кругов по улице. Конечно же, по тем, где было безопасно. Прежде всего, я остановился у церкви и бросил взгляд на святых. На меня находил некоторый страх, когда я видел их изображения, неподвижные и освещенные свечами. Свечи мигали, и оттого святые тоже мигали. Я пока еще не был уверен в том, что святым быть хорошо и все время стоять неподвижно, неподвижно. Я прошел через ризницу, где находился дон Закариас, вытаскиваю-щий из канделябров огарки и устанавливающий в них новые свечи. Он уже сложил на столе целую горку огарков.
Он остановился, взгромоздил очки на кончик носа, выдохнул, развернулся и промолвил:
— Добрый день, мальчик.
— Вы не хотите, чтобы я вам помог?
Мои глаза пожирали огарки свечей.
— Если только хочешь мешать. Ты не был сегодня в школе?
— Да, был. Но учительница не пришла. У нее болят зубы.
— А!
Он снова повернулся, опять взгромоздил очки на кончик носа.
— Сколько тебе лет, мальчик?
— Пять, нет шесть лет. Не шесть, в действительности пять.
— Так на чем остановимся, пять или шесть?
Я подумал о школе и соврал: — Шесть.
— Ну что же, в шесть лет тебе уже пора приступить к изучению Катехизиса.
— А я могу?
— Почему нет? Ты должен будешь приходить каждый четверг в три часа. Хочешь придти?
— Как посмотреть. Если вы мне дадите огарки свечей, приду.
— А зачем они тебе?
Черт мне нашептывал одну вещь. И я опять соврал.
— Хочу навощить нить для летучего змея, чтобы она была крепче.
— Тогда забери их.
Я собрал огарки и бросил их в сумку, вместе с тетрадками и шариками. Я весь горел от радости.
— Спасибо большое, дон Закариос.
— Ты хорошо понял, а? В четверг.
Я выскочил на крыльях. Так как еще было рано, то у меня было время сделать это дело. Побежал к Клубу, и когда никого не было, пересек улицу и как можно быстрее рассыпал кусочки воска по тротуару. Затем вернулся, бегом и стал ждать, присев на пороге одной из четырех дверей Клуба. Хотел смотреть издалека, кто же поскользнется первым.
Уже почти потерял надежду от долгого ожидания. Но вскоре, вот оно! Мое сердце подпрыгнуло; донья Корина, мать Нанзеазены показалась с платочком и книгой из дверей и направилась к церкви.
— Дева Мария!
Она была подруга моей матери, а Нанзеазена ближайшей подругой Глории. Я уже ничего не хотел видеть. Я бросился бегом за угол, там остановился и посмотрел. Женщина была распластана на земле и говорила плохие слова.
Собрались люди посмотреть, не ушиблась ли она, но потому, как она ругалась, было видно, что получила лишь царапины.
— Это все эти молокососы, которые тут шляются!
Я вздохнул с облегчением. Однако не тут то, было, сзади, чья-то рука крепко держала мою сумку.
— Это твое дело, Зезé?
Дон Орландо Рыжеволосый. Только его не хватало, он столько времени был нашим соседом. Я потерял дар речи.
— Так это или нет?
— Вы же никому не расскажите там, дома, не правда ли?
— Не буду рассказывать, нет. Но смотри, Зезé. На этот раз повезло, потому что эта старуха невоздержанна на язык. И не делай опять этого, потому что кто-нибудь сломает ногу.
Я сделал самое покорное лицо в мире, и он отпустил меня.
Я вновь пустился кругами по рынку, ожидая, когда он придет. Потом я побывал в булочной дона Роземберга, посмеялся и поговорил с ним:
— Добрый день дон Роземберг. Он сухо кинул мне «добрый день» и ни одной галеты. Сукин сын! Он давал мне это только когда я был с Лалá. Вскоре он появился. В это время часы на церкви пробили девять. Он никогда не подводил. Я шел по его шагам, следуя на определенном расстоянии. Вот он вступил на улицу Прогресса и остановился почти на углу. Положил сумку на землю и перебросил мешок на левое плечо. Ах, какая красивая рубаха в клетку! Когда буду взрослым, то буду носить только такие рубашки. Кроме того у него был на шее красный платок и шляпа сдвинутая назад. Затем он зазвенел своим сильным голосом, и это наполнило улицу весельем.
— Подойдите поближе! Здесь самые последние новости дня!
Его низкий голос был тоже красивый.
— События недели! Клаудионор!.. Простите…. Самая свежая музыка Чико Виола[21]. Новый успех Висенте Селестино[22]. Учите слова, друзья, это последняя мода!
Эта манера произносить слова, почти нараспев, меня очаровывала.
Больше всего я хотел, чтобы он спел «Фани». Он всегда это пел, и я хотел выучить ее. Когда он доходил до того места, в котором говорилось: «В одиночной камере я увижу твою смерть»…. Это было жутко как красиво. Он дал голос и запел «Клаудионор» [23].
Я пошел на самбу на холме Мангейры.
Одна мулатка позвала меня…
Но не хочу идти туда, я боюсь.
Ее муж очень сильный и может убить.
Не могу я сделать как Клаудионор,
Что бы содержать семью он стал стивидором.[24]
Он остановился и объявил:
— Буклеты с текстами песен, по разным ценам, от одного тостао до четырехсот рейсов. Семьдесят новых песен! Последние танго.
К моей радости наступил черед «Фани».
Ты воспользовался тем, что она осталась одна.
Не имела времени позвать соседку…
Ты ударил ее ножом без боли и сострадания.
(Его голос снова стал мягким, сладким, нежным, могущий разбить самое твердое сердце.)