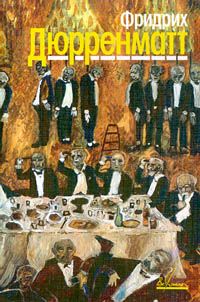Комиссар заметил, что пора вернуться к Гастману, он интересует его больше.
— Как вам угодно, — сказал писатель, — вернемся к Гастману, комиссар, к этому полюсу зла. У него зло не есть выражение философии или мании, а выражение его свободы: свободы отрицания.
— За такую свободу я и гроша ломаного не дам, — ответил старик.
— И не давайте ни гроша, — возразил тот. — Но можно всю свою жизнь посвятить изучению этого человека и этой его свободы.
— Всю свою жизнь, — сказал старик.
Писатель молчал. Казалось, он больше не намерен говорить.
— Я имею дело с реальным Гастманом, — произнес после долгого молчания старик. — С человеком, живущим под Ламлингеном в долине Тессенберга и устраивающим приемы, которые стоили жизни лейтенанту полиции. Я должен знать, является ли образ, что вы мне нарисовали, образом Гастмана или порождением вашей фантазии?
— Нашей фантазии, — поправил писатель.
Комиссар молчал.
— Не знаю, — заключил писатель и подошел к ним, чтобы попрощаться, но руку протянул только Берлаху, только ему. — Меня никогда не интересовали подобные вещи. В конце концов, дело полиции расследовать этот вопрос.
Оба полицейских направились к своей машине, преследуемые белой собачонкой, яростно лаявшей на них; Чанц сел за руль.
Он сказал:
— Этот писатель мне не нравится.
Собачонка взобралась на ограду и продолжала лаять.
— А теперь к Гастману, — заявил Чанц и включил мотор.
Старик покачал головой.
— В Берн.
Они спускались к Лигерцу, в глубь низины. Широко раскинулись камень, земля, вода. Они ехали в тени, но солнце, скрывшееся за Тессенбергом, еще освещало озеро, остров, холмы, предгорья, ледники на горизонте и нагроможденные друг на друга армады туч, плывущие по синим небесным морям. Не отрываясь глядел старик на беспрерывно менявшуюся погоду поздней осени. «Всегда одно и то же, что бы ни происходило, — думал он, — всегда одно и то же». Когда дорога резко повернула и показалось озеро, отвесно лежавшее как выпуклый щит у их ног, Чанц остановил машину.
— Мне надо поговорить с вами, комиссар, — сказал он взволнованно.
— О чем? — спросил Берлах, глядя вниз на скалы.
— Мы должны побывать у Гастмана, иначе мы не продвинемся ни на шаг, это же логично. Прежде всего нужно допросить слуг.
Берлах откинулся на спинку и сидел неподвижно, седой, благообразный господин, спокойно разглядывая молодого человека сквозь холодный прищур глаз.
— Бог мой, мы не всегда властны поступать так, как подсказывает логика, Чанц. Лутц не желает, чтобы мы посетили Гастмана. Это и понятно, ведь он должен передать дело федеральному прокурору. Подождем его распоряжений. К сожалению, мы имеем дело с привередливыми иностранцами. — Небрежный тон Берлаха вывел Чанца из себя.
— Это же абсурд, — воскликнул он. — Лутц из своих политических соображений саботирует дело. Фон Швенди его друг и адвокат Гастмана, из этого легко сделать вывод.
Берлах даже не поморщился:
— Хорошо, что мы одни, Чанц. Может быть, Лутц и поступил несколько поспешно, но из добрых побуждений. Загадка в Шмиде, а не в Гастмане.
Но Чанц не сдавался.
— Мы обязаны доискаться правды, — воскликнул он с отчаянием в надвигающиеся тучи. — Нам нужна правда и только правда о том, кто убил Шмида!
— Ты прав, — повторил Берлах, но бесстрастно и холодно, — правда о том, кто убил Шмида.
Молодой полицейский положил свою руку на левое плечо старика и взглянул в его непроницаемое лицо:
— Поэтому мы должны использовать все средства. Нам нужен Гастман. Следствие должно быть исчерпывающим. Не всегда можно поступать согласно логике, сказали вы. Но в данном случае мы обязаны так поступать. Мы не можем перепрыгнуть через Гастмана.
— Убийца не Гастман, — сказал Берлах сухо.
— Может быть, Гастман только приказал убить. Надо допросить его слуг! — воскликнул Чанц.
— Не вижу ни малейшей причины, по которой Гастман мог бы приказать убить Шмида, — сказал старик. — Мы должны искать преступника там, где преступление имело бы смысл, а это в компетенции только федерального прокурора, — продолжал он.
— Писатель тоже считает Гастмана убийцей, — крикнул Чанц.
— А ты, ты тоже так считаешь? — насторожился Берлах.
— Да, я тоже, комиссар.
— Значит, только ты, — констатировал Берлах. — Писатель считает его лишь способным на любое преступление, это большая разница. Писатель не сказал ни слова о преступлениях Гастмана, он говорил только о его потенциальных способностях.
Чанц потерял терпение. Он схватил старика за плечи.
— Многие годы я оставался в тени, комиссар, — прохрипел он. — Меня всегда обходили, презирали, использовали в лучшем случае как последнее ничтожество, как надежного почтальона.
— Согласен, Чанц, — сказал Берлах, уставившись в полное отчаяния лицо молодого человека, — многие годы ты стоял в тени того, кто теперь убит.
— Только потому, что он был более образованным! Только потому, что он знал латынь!
— Ты несправедлив к нему, — ответил Берлах, — Шмид был лучшим криминалистом из всех, кого я когда-либо знал.
— А теперь, — кричал Чанц, — теперь, когда у меня появился шанс, все опять должно пойти насмарку, а какая-то идиотская дипломатическая игра должна погубить мою единственную возможность выбиться в люди! Только вы можете изменить это, комиссар, поговорите с Лутцем, только вы можете убедить его послать меня к Гастману.
— Нет, Чанц, — сказал Берлах, — я не могу этого сделать.
Чанц затряс его как школьника, крепко сжимая плечи, и закричал:
— Поговорите с Лутцем, поговорите!
Но старик не уступал.
— Не могу, Чанц, — сказал он, — я этим делом больше не занимаюсь. Я стар и болен. Мне необходим покой. Ты сам должен себе помочь.
— Хорошо, — сказал Чанц, смертельно бледный и дрожащий. Он отпустил Берлаха и взялся за руль. — Не надо. Вы не можете мне помочь.
Они снова поехали вниз в сторону Лигерца.
— Ты, кажется, отдыхал в Гриндельвальде? В пансионате Айгер? — спросил старик.
— Так точно, комиссар.
— Там тихо и не слишком дорого?
— Совершенно верно.
— Хорошо, Чанц, я завтра поеду туда отдохнуть. Мне нужно в горы. Я взял недельный отпуск по болезни.
Чанц ответил не сразу. Лишь когда они свернули на дорогу Биль — Нойенбург, он сказал, и голос его прозвучал как обычно:
— Высота не всегда полезна, комиссар.
В этот же вечер Берлах отправился к своему врачу доктору Самуэлю Хунгертобелю, на Беренплатц. Уже горели огни, темная ночь быстро вступала в свои права. Из окна Хунгертобеля Берлах смотрел вниз на площадь, кишевшую людьми. Врач убирал свои инструменты. Берлах и Хунгертобель давно знали друг друга, они вместе учились в гимназии.
— Сердце, слава Богу, в порядке, — сказал Хунгертобель.
— Есть у тебя записи о моей болезни? — спросил Берлах.
— Целая папка, — ответил врач и указал на ворох бумаг на письменном столе. — Все о твоей болезни.
— Ты кому-нибудь рассказывал о моей болезни, Хунгертобель? — спросил старик.
— Что ты, Ганс, — сказал другой старик, — это же врачебная тайна.
Внизу на площади появился синий «мерседес», стал в ряд с другими машинами. Берлах присмотрелся. Из машины вышли Чанц и девушка в белом плаще, по которому струились светлые волосы.
— К тебе когда-нибудь забирались воры, Фриц? — спросил комиссар.
— С чего ты взял?
— Да так.
— Однажды кто-то все перерыл на моем письменном столе, — признался Хунгертобель, — а твоя история болезни лежала сверху. Деньги не пропали, хотя в ящиках стола их было порядочно.
— Почему ты не заявил об этом?
Врач почесал голову.
— Хотя деньги и не пропали, я хотел все же заявить. Но потом забыл.
— Так, — сказал Берлах. — Ты забыл. С тобой по крайней мере у воров хлопот не было. — И он подумал: «Вот, значит, откуда Гастман знает». Он снова посмотрел на площадь. Чанц с девушкой вошли в итальянский ресторан. «В день похорон», — подумал Берлах и отвернулся от окна. Он посмотрел на Хунгертобеля, который сидел за столом и писал.
— Как обстоят мои дела?
— Боли есть?
Старик рассказал о приступе.
— Скверно, Ганс, — сказал Хунгертобель. — В ближайшие три дня мы должны тебя оперировать. Откладывать нельзя.
— Я себя чувствую хорошо, как никогда.
— Через четыре дня будет новый приступ, Ганс, — сказал врач, — и ты его уже не переживешь.
— Значит, в моем распоряжении еще два дня. Два дня. А утром третьего дня ты будешь меня оперировать. Во вторник утром.
— Во вторник утром, — сказал Хунгертобель.
— И после этого мне останется один год жизни, не так ли, Фриц? — сказал Берлах и невозмутимо, как всегда, посмотрел на своего школьного товарища. Тот вскочил и зашагал по комнате.