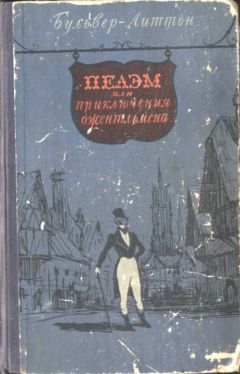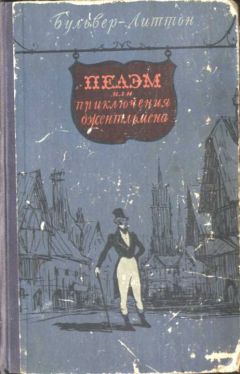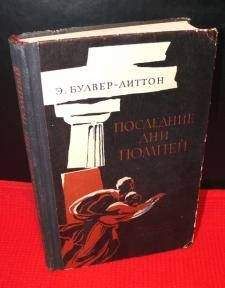Арбак сказал правду – возврата для Апекида не было. Он дал обет безбрачия, он обрек себя на жизнь, исполненную, как теперь кажется, фанатичной суровости, и был лишен последней возможности найти утешение в вере. Неудивительно, что он все еще страстно желал хоть как-то примириться с непреложным своим жребием. Сильный и глубокий ум египтянина вновь покорил его юношеское воображение, он был взволнован туманными намеками, колебался между надеждой и страхом.
Тем временем Арбак медленно и с достоинством шествовал к дому Ионы. Войдя в таблин, он вдруг услышал из перистиля голос, хотя и мелодичный, но неприятный для его уха, – это был голос молодого красавца Главка, и в первый раз египтянин ощутил в груди укол ревности. Войдя в перистиль, он увидел Главка, сидевшего рядом с Ионой. В благоухающем саду серебристой струей бил фонтан, приятно смягчая полуденный зной. Рабыни, неизменно находившиеся при своей госпоже, которая хоть и вела свободный образ жизни, но соблюдала при этом самую строгую скромность, сидели поодаль; у ног Главка лежала лира, на которой он только что играл Ионе лесбосскую песню[81]. В этой группе, представшей перед взором Арбака, была та своеобразная и утонченная поэтическая гармония, которую мы и сейчас справедливо считаем отличительной чертой древних: мраморные колонны, вазы с цветами, статуи, белые и недвижные, и главное – два живых существа, которые могли либо вдохновлять, либо привести в отчаяние скульптора.
Арбак остановился, глядя на эту пару, и обычное спокойствие исчезло с его лица. Усилием воли он овладел собой и медленно подошел к ним так тихо и бесшумно, что даже рабыни не услышали его шагов, а тем более – Иона и влюбленный Главк.
– И все же, – говорил афинянин, – только не изведав любви, мы воображаем, будто наши поэты правдиво ее описали; в то мгновение, когда встает солнце, все звезды, ярко сиявшие на небе, меркнут. Поэты пленяют лишь тех, у кого в сердце царит ночь, они ничто, когда мы видим божество во всей его славе.
– Какой возвышенный и блестящий образ, благородный Главк!
Оба они вздрогнули и, обернувшись, увидели холодное и насмешливое лицо египтянина.
– Ты пришел неожиданно, – сказал Главк, вставая с принужденной улыбкой.
– Так всегда приходит тот, кто знает, что он желанный гость, – отозвался Арбак, садясь и жестом приглашая сесть Главка.
– Я рада наконец видеть вас вместе, – сказала Иона. – Вы словно созданы друг для друга и должны стать друзьями.
– Будь я лет на пятнадцать помоложе, ты могла бы равнять меня с Главком, – сказал египтянин. – И я, можешь мне поверить, был бы счастлив его дружбой. Но что могу я дать ему взамен? Могу ли я сделать ему те же признания, что он мне, рассказать о пирах и венках, о парфянских конях и превратностях игры в кости? Эти развлечения подобают его возрасту, его характеру, его образу жизни, но они не для меня.
Сказав это, хитрый египтянин вздохнул и опустил глаза, но украдкой он поглядел на Иону, чтобы увидеть, как она воспримет эти намеки на обычное времяпрепровождение ее гостя. Выражение ее лица ему не понравилось.
Главк, слегка покраснев, поспешил ответить. Быть может, и он, в свою очередь, хотел смутить и сконфузить египтянина.
– Ты прав, мудрый Арбак, – сказал он. – Мы можем уважать друг друга, но не можем быть друзьями. Я обхожусь без той тайной приправы, которая, как говорят, придает особый вкус твоим пирам. Но, клянусь Геркулесом, когда я доживу до твоих лет, то, пожелав, подобно тебе, радостей зрелого возраста, я, без сомнения, буду с насмешкой говорить о развлечениях молодости.
Египтянин поднял глаза и бросил на Главка быстрый, пронизывающий взгляд.
– Я тебя не понимаю, – сказал он холодно. – Но, говорят, остроумие тем тоньше, чем непонятней. – Он отвернулся от Главка с едва заметной презрительной усмешкой и, помолчав, обратился к Ионе: – Мне не посчастливилось, прекрасная Иона, застать тебя дома, когда последние два или три раза я приходил к твоему порогу.
– На море было так тихо, что не хотелось сидеть дома, – отвечала она с легким смущением.
Ее смущение не укрылось от Арбака. Не показывая виду, что он это заметил, египтянин сказал с улыбкой:
– Ты знаешь, что говорит старинный поэт[82]: «Женщины должны сидеть взаперти и услаждать беседой».
– Сказавший это был циник, – вмешался Главк, – и ненавидел женщин.
– Он говорил в соответствии с обычаями своей страны, а страна эта – твоя хваленая Греция.
– В разные времена – разные обычаи. Если б наши предки знали Иону, они рассудили бы по-иному.
– Это ты в Риме выучился говорить любезности? – спросил Арбак с плохо скрытым раздражением.
– Уж конечно, за этим никто не поедет в Египет, – отозвался Главк, небрежно играя своей цепью.
– Ну, будет вам, – сказала Иона, торопясь прервать этот разговор, к ее огорчению мало способствовавший сближению, которого она желала. – Арбак не должен быть так суров к своей бедной ученице. Сироту, не знавшую материнской заботы, нельзя винить за независимый характер и почти мужскую свободу, которую она избрала. Притом позволяет себе не больше того, что в обычае у римских женщин и, вероятно, у греческих. Увы! Неужели только мужчинам дано сочетать свободу и добродетель? Почему лишь пагубное рабство считается единственным способом охранить нас? Поверь мне, мужчины совершили величайшую ошибку, которая дорого им стоила, вообразив, что женщина – не скажу, ниже их, что, может быть, и так – совершенно иное существо, и издав законы, мешающие умственному развитию женщин. Разве эти законы не обратились против них самих? Ведь жены должны быть им друзьями, а иногда и советчицами!
Иона вдруг замолчала, и лицо ее залил нежный румянец. Она испугалась, что увлеклась и зашла слишком далеко, и все же сурового Арбака она боялась меньше, чем доброго Главка, потому что Главка она любила, а не в обычае греков было предоставлять женщинам (или по крайней мере наиболее уважаемым из женщин) ту же свободу, какой они пользовались в Италии. Поэтому она обрадовалась, когда Главк сказал серьезно:
– Всегда так думай, Иона, и слушайся своего чистого сердца! Ни одно государство не может пасть от свободы или знания, а женщины любят лишь свободных и поощряют лишь мудрых.
Арбак молчал, потому что не в его интересах было хвалить Главка или порицать Иону. Разговор никак не клеился, и Главк скоро простился.
Когда он ушел, Арбак, придвинувшись ближе к прекрасной неаполитанке, кротко сказал, искусно пряча свою хитрость и злобу:
– Не думай, моя милая ученица, если ты позволишь мне так тебя называть, что я хочу как-то стеснять ту свободу, которую ты можешь только украсить. Хотя, как ты справедливо сказала, она не больше той свободы, которой пользуются римлянки, но ты, незамужняя девушка, все же должна быть осмотрительней. Пусть у ног твоих по-прежнему будут самые веселые, блестящие, умные молодые люди, очаровывай их беседой, достойной Аспасии, музыкой Эринны, но помни о злых языках, которые так легко могут опорочить твое доброе имя. Молю тебя: покоряя сердца, не дай восторжествовать завистникам.
– О чем ты говоришь, Арбак? – спросила Иона с тревогой, и голос ее задрожал. – Я знаю, ты мой друг, ты заботишься о моей чести, о моем благе. Как мне понять тебя?
– Да, я самый искренний твой друг! Позволь же мне говорить как другу, откровенно, не боясь тебя обидеть.
– Я прошу тебя об этом.
– Этот юный повеса Главк… как ты с ним познакомилась? И часто ли вы видитесь?
Сказав это, Арбак пристально посмотрел на Иону, словно хотел заглянуть ей прямо в душу.
Съежившись под этим взглядом, охваченная необъяснимым страхом, девушка ответила смущенно и неуверенно:
– Его представили мне как соотечественника моего отца, а значит, и моего. Мы знакомы всего неделю. Но что значат эти расспросы?
– Прости меня, – сказал Арбак. – Я-то думал, ты знаешь его давно. Так вот, он низкий лгун.
– Как! Что ты говоришь? Какое ужасное слово!
– Оставим это. Я не хочу, чтобы ты возмущалась этим человеком, слишком много для него чести.
– Умоляю тебя, говори. Кого же оболгал Главк? Или, вернее, в чем, тебе кажется, он повинен?
Скрывая свою досаду, Арбак продолжал:
– Ты знаешь, как он проводит время, кто его друзья, какие у него привычки? Кости и пиры – вот чем он увлечен, а среди этих спутников порока как может он мечтать о добродетели?
– Ты все еще говоришь загадками. Во имя богов, молю тебя, скажи все, я готова к худшему.
– Хорошо, будь по-твоему. Знай же, моя Иона, что не далее как вчера Главк при всех, в общественных банях, хвастался твоей любовью к нему. Он сказал, что его это забавляет. Правда, надо отдать ему справедливость, он хвалил твою красоту. Кто мог бы ее порицать! Но он презрительно рассмеялся, когда один из его приятелей, кажется, Клодий или Лепид, спросил его, любит ли он тебя настолько, чтобы жениться, и скоро ли намерен украсить свои двери гирляндами.