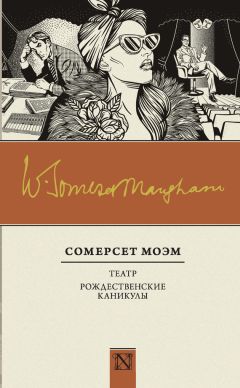— Может быть, выйдем? — шепотом спросил он.
Лидия сердито помотала головой. Рыдания сотрясали ее все сильней и сильней, и вдруг она опустилась на колени, уткнулась лицом в ладони и неудержимо разрыдалась. Она странно скорчилась, стала похожа на груду сброшенной одежды, и, не вздрагивай у нее плечи, можно было подумать, что она в глубоком обмороке. Она лежала у основания высокой колонны, и Чарли, безмерно смущенный, стоял подле нее, стараясь заслонить ее от чужих взглядов. Многие с любопытством посматривали на нее, потом на него. Он злился, представляя, что они думают. Музыку приглушили, хор умолк, установилась благоговейная волнующая тишина. Причащающиеся ряд за рядом продвигались к алтарю, поднимались по ступеням, чтобы принять частицу тела Христова, которую давал им священник. Деликатность мешала Чарли посмотреть на Лидию, и он не отрывал глаз от ярко освещенного алтаря. Но когда она чуть приподнялась, тотчас это заметил. Она повернулась к колонне и, опершись о нее рукой, спрятала лицо в изгибе локтя. Безудержные слезы измучили ее, но в том, как она прислонилась, припала к холодному камню, упираясь коленями в каменные плиты, такое было безысходное горе, что видеть ее сейчас было еще невыносимей, чем скорчившуюся на полу, сокрушенную, точно застигнутую неестественной, насильственной смертью.
Служба подошла к концу. Орган присоединился к оркестру, чтобы в заключение исполнить соло, и увеличивающийся поток людей, спешащих сесть в свои автомобили или поймать такси, устремился к выходу. Но вот все кончилось, и огромная толпа хлынула из церкви. Чарли подождал, пока они с Лидией остались одни у колонны и последняя волна уже катилась к дверям. И положил руку на плечо девушки.
— Идемте. Надо уходить.
Он обхватил ее рукой и поставил на ноги. Она покорно подчинилась. Только глаза отвела. Чарли взял ее под руку и повел по проходу между рядами, потом опять чуть задержался, пока в церкви не осталось всего человек десять — двенадцать.
— Хотите немного пройти пешком?
— Нет, я так устала. Лучше сядем в такси.
Но все равно несколько шагов пройти пришлось — такси подвернулось не сразу. Когда они оказались подле уличного фонаря, Лидия остановилась, вынула из сумки зеркало и посмотрелась. Глаза распухли. Она достала пуховку и припудрилась.
— Сейчас ничем не поможешь, — сказал Чарли с доброй улыбкой. — Лучше зайдем куда-нибудь, выпьем. В таком виде вы не можете вернуться в Sérail.
— Я, если плачу, глаза всегда распухают. Чтоб все прошло, нужно несколько часов.
В эту минуту показалось такси, и Чарли его подозвал.
— Куда поедем?
— Все равно. В «Селект». Бульвар Монпарнас.
Чарли дал шоферу адрес, и они поехали вдоль реки.
Когда подъехали, он заколебался — казалось, выбранный Лидией ресторан переполнен, но она вышла из такси, и он последовал за ней. Несмотря на холод, много народу сидело на террасе. Они нашли столик в помещении.
— Я пройду в дамскую комнату, вымою глаза.
Через несколько минут она вернулась и села рядом. Она пониже надвинула шляпу, чтобы скрыть распухшие веки, и припудрилась, но не нарумянилась, лицо очень бледное. Сейчас она была совсем спокойна. О приступе рыданий, случившемся с ней, не сказала ни слова, и можно было подумать, она считает его вполне естественным и не требующим извинения.
— Я очень голодная, — сказала она. — Вы, наверно, тоже.
Чарли был голоден как волк и, ожидая Лидию, спрашивал себя, не слишком ли будет вульгарно, если он при таких обстоятельствах закажет себе яичницу с беконом. После ее слов он вздохнул с облегчением. Оказалось, она тоже мечтает о яичнице с беконом. Он хотел заказать бутылку шампанского, думал, ей надо подбодриться, но она не позволила.
— Чего ради вам тратиться? Лучше выпьем пива.
Они с аппетитом уплетали нехитрую еду. Немного поговорили. Воспитанный Чарли попытался вести учтивую беседу, но Лидия не поддержала ее, и вскоре они замолчали. Когда покончили с едой и выпили кофе, Чарли спросил ее, что она хочет делать дальше.
— Я бы еще посидела здесь. Мне в «Селекте» очень нравится. Тут уютно и по-домашнему. Мне нравится смотреть на людей, которые сюда приходят.
— Ладно, посидим тут.
Не сказать, чтоб он так предполагал провести первую ночь в Париже. Надо ж было сделать такую глупость — повести ее на рождественскую мессу. У него недоставало мужества обойтись с ней не по-доброму. Но, видно, что-то в его тоне ее насторожило, потому что она полуобернулась, заглянула ему в лицо. И опять улыбнулась той улыбкой, которая уже раза три освещала ее лицо. Странная то была улыбка. Она едва тронула губы, не веселая, но не лишенная доброты, скорее ироническая, чем веселая, она появлялась редко и как бы нехотя, были в ней терпение и разочарование.
— Что вам за удовольствие здесь сидеть. Может быть, оставите меня здесь, а сами вернетесь в Sérail?
— Нет, это не годится.
— Знаете, я ведь не прочь посидеть одна. Бывает, прихожу сюда сама и сижу часами. Вы приехали в Париж развлечься. И глупо было бы иначе.
— Если я вам не наскучил, я бы хотел посидеть тут с вами.
— Но почему? — Она бросила на него презрительный взгляд. — Вы что, считаете нужным разыгрывать благородство и жертвовать собой? Или вам жаль меня? Или просто любопытно?
Чарли не понимал ее — почему она будто сердится на него, почему старается уязвить?
— Отчего же мне жалеть вас? Или любопытничать?
Он хотел дать ей понять, что она не первая проститутка в его жизни и что на него вряд ли произведет впечатление рассказ о ее судьбе, вероятно, грязный и скорее всего далекий от правды. Лидия уставилась на него с откровенным безмерным изумлением.
— Что вам рассказал обо мне ваш друг Саймон?
— Ничего.
— Почему же тогда вы сейчас покраснели?
— Я не знал, что покраснел, — улыбнулся Чарли.
На самом деле Саймон сказал, что с ней можно неплохо позабавиться, она своих денег стоит, но не те это были слова, чтоб повторить ей сейчас. Бледная, с опухшими веками, в дешевом коричневом платье и черной фетровой шляпе, она совсем не походила на обнаженное до пояса существо в голубых шальварах, в котором была какая-то экзотическая, вызывающая любопытство привлекательность. Сейчас перед ним сидела совсем другая женщина, скромная, благопристойная, серьезная, Чарли и помыслить не мог о том, чтобы лечь с ней в постель, все равно как с какой-нибудь из младших учительниц в Пэтсиной школе. Лидия снова умолкла. Кажется, замечталась. А когда наконец заговорила, можно было подумать, она не к Чарли обращается, а продолжает ход своих размышлений:
— Если я сейчас плакала в церкви, то вовсе не из-за того, о чем вы подумали. Из-за того, видит Бог, я уже довольно наплакалась, а теперь совсем из-за другого. Мне так стало одиноко. Все эти люди, они у себя на родине, и у них есть дом, завтра они будут праздновать Рождество со своими родными, с отцом и матерью, с детьми; некоторые, как вы, пришли просто послушать музыку, а некоторые — неверующие, но в те минуты их всех соединяло общее чувство; этот обряд они знали всю жизнь, его смысл у них в крови, каждое слово священника и каждое его движение им знакомо, и даже если умом они не веруют, благоговение, чувство тайны у них в крови, и они веруют в сердце своем; это часть воспоминаний о детстве, о садах, где они играли, о жизни на природе, о городских улицах. Это связывает их друг с другом, они становятся единым целым, и тайное чутье подсказывает им, что они родные друг другу. А я чужая. У меня нет родины, нет дома, нет языка. Я сама по себе. Я отверженная.
У нее вырвался печальный смешок.
— Я русская, а я только то и знаю о России, что читала. Я тоскую по бескрайним полям золотых хлебов, по серебристым березовым рощам, о которых читала в книгах, но, как ни стараюсь, не могу себе их представить. Москву я знаю такой, какой видела ее в кино. Иногда ломаю голову, пытаюсь вообразить себя в русской деревне, в беспорядочном селении, где дома сложены из бревен, а крыши соломенные, я читала о них у Чехова, и не могу, и знаю, мне видится совсем не то, что на самом деле. Я русская, а на своем родном языке говорю хуже, чем по-английски и по-французски. Толстого и Достоевского мне легче читать в переводе. Для своих соотечественников я такая же чужая, как для англичан и французов. Вы, у кого есть дом, и родина, и любящие вас люди, и еще другие, у кого те же обычаи, что и у вас, и вы их понимаете, даже если с ними незнакомы, — разве вы можете сказать, что значит быть одной в целом свете?
— И у вас совсем нет родных?
— Никого. Мой отец был социалист, но он был тихий, мирный человек, поглощенный своими учеными занятиями, и не участвовал в политике. Он приветствовал революцию и думал, что она откроет для России новую эру. Он принял большевиков. Только просил, чтобы ему позволили продолжать работать в университете. Но его уволили, а потом он узнал что ему грозит арест. Мы бежали через Финляндию, отец, мать и я. Мне было два года. Двенадцать лет мы жили в Англии. Как жили, одному Богу известно. Иногда отцу перепадала кой-какая работа, иногда люди нам помогали, но отец тосковал по родине. Прежде, кроме студенческих лет в Берлине, он никогда не уезжал из России; он не мог привыкнуть к английскому образу жизни и наконец почувствовал, что должен вернуться. Мать умоляла его не ехать. Он ничего не мог с собой поделать, не мог он не поехать, слишком сильно было желание; он связался с людьми из русского посольства в Лондоне, сказал, что готов выполнять любую работу, какую бы ему ни предложили большевики; в России у него было имя, в свое время книги его удостаивались всяческих похвал, в своей области он был признанным авторитетом. Ему чего только не наобещали, и он отправился. Едва пароход пристал, отца схватили агенты Чека. Мы слышали, что его посадили в тюремную камеру на четвертом этаже и потом выбросили из окна. А сказали, что он покончил с собой.