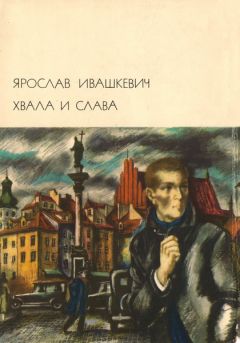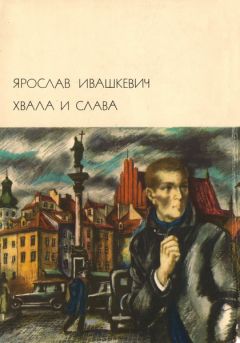Старый Яжина встал и подошел к роялю. Над роялем в узкой золоченой рамке висела фотография Рысека в костюме для первого причастия. Более поздней фотографии внука у него не было. Фотография была скверная, черты расплывчатые, лицо фиолетового оттенка смазано, отчетливо видны только широко раскрытые глаза мальчика и большой белый бант над локтем.
— Ничего от тебя не осталось, ничего, ничего, — прошамкал старый органист. — А то бы ты мне объяснил… Я ведь ничего не понимаю…
Дрожащими руками принялся он рыться в груде нотной бумаги, оставшейся на рояле после Рысека. Из бумаг выпал портрет Эдгара Шиллера — вырезка из какого-то заграничного журнала. Эдгар сидел в несколько манерной позе с папиросой в руке, подстриженные усики придавали красивому лицу фатоватое выражение. Уставясь на эту вырезку, Яжина твердил, точно пьяный:
— Видит бог, пан Эдгар, не понимаю!
Вошла Гелена. Увидела, что отец держит что-то в руке, и заглянула ему через плечо.
— Ну и ну! Откуда такое взялось? Сколько раз я перебирала эти бумаги и не видала…
Она взяла у отца портрет и поднесла к лампе, вглядываясь в него с каким-то насмешливым и вместе с тем как будто слегка смягчившимся выражением лица.
— Ишь ты, какой франтик. А похож!
— Ты трогала это? — спросил обеспокоенный органист.
— А что, брала там какую-то бумагу, — ответила она небрежно, не отрывая глаз от вырезки.
— Я же тебе говорил: не смей трогать!
Гелена пожала плечами.
— Ой да уж!.. — И спрятала портрет Эдгара в кармашек на груди. — Век, что ли, им лежать на рояле? Только мухи засиживают…
Яжина схватил груду потной бумаги и прикинул на руке. Она показалась ему куда легче, чем раньше.
— А куда остальное девалось? — закричал он.
— Опять ты за свое! — вспылила Гелена. — Ведь тут же был тот еврейчик из Лодзи, Артурек, он и забрал…
— И после Мальского здесь было больше.
— Да не век же этим бумагам тут лежать!
— Гелена!
— Да кому оно нужно?!
Яжина медленно направился к дочери. Весь он как-то подобрался и одеревенел, это одновременно было и смешно и страшно. Гелена хотела было рассмеяться и тут же раздумала.
— Ой-ой! — вскрикнула она и быстро ускользнула на кухню.
Яжина бросил кипу исчерканной нотной бумаги на рояль, быстро подошел к буфету и распахнул дверцы, но было уже темно и он ничего не мог разглядеть. Тогда он запустил руку в глубину и принялся ощупывать бумагу, подстеленную под чашками и стаканами. Тонкими, чуткими пальцами уловил он вереницы нотных линеек. Тихо охнул и принялся выдирать бумагу из-под посуды резкими, нервными движениями. Несколько рюмок, зазвенев, упали на пол, но старик, не обращая на это внимания, продолжал выдирать бумагу.
Из кухни влетела Гелена.
— Отец! — завопила она. — Да ты никак пьян! Он еще и посуду бьет!
Яжина обеими руками поднял над головой бумагу. Глаза его жестоко сверкали.
— Ты, падаль, — прошептал он, — ты всегда его ненавидела. Всегда к нему ревновала… и сейчас, после смерти, готова его добить… осиновый кол готова…
Гелена не выдержала.
— Да, осиновый кол! — крикнула она пронзительно. — Сколько же еще с этим вурдалаком жить! Никакой мочи нету, все только Рысек да Рысек! Только одно и было. Да что у меня, своей жизни нет? Что я, не человек?! Что мне, не жить теперь, что ли?!
Она упала в единственное кресло и разрыдалась громко, открыто, наконец-то от всей души.
Напуганный этим плачем Яжина быстро зашлепал к креслу, оставив бумаги на буфете, и стал гладить дочь по голове.
— Геля, что с тобой? — тупо твердил он. — Ну не плачь же, доченька! Разве ж ты мне не дочка? Последняя моя…
— Стало быть, не дочка, — сквозь слезы воскликнула Гелена. — Даже не пожалеешь. Всю жизнь… всю мою жизнь…
Судорожные рыдания перехватили ей горло.
— Вот возьму да наложу на себя руки! — закричала она вдруг.
Яжина обхватил ее голову.
— Дочка, — шептал он, — дочка… Да чем же я тебе помогу? Я же и сам… Я ведь и сам…
И больше ничего не мог сказать. Только прижался головой к заплаканному лицу Гелены и тоже разрыдался.
Дося Вевюрская была музыкальна от природы да к тому же столько наслушалась за годы, проведенные в гардеробе филармонии, что вдалеке, внизу, знала, как идет концерт. Когда после трагического минора зазвучал чудесный мажор финала Пятой симфонии, она встрепенулась, стряхнула с себя не то дрему, не то задумчивость, в которой пребывала вот уже полчаса, и приготовилась к решительным действиям, — окинула взглядом ряды пальто и шуб, сгрудившихся на вешалках, взглянула на шляпы, мужские и дамские вперемежку, проверяя, все ли в порядке, и прикидывая, откуда придется начать. И тут-то она заметила, что в просторном вестибюле, среди людей, которые пришли встретить своих близких, есть и знакомые. Напротив ее барьера, напротив ее «царства», как она сама его называла, прохаживался взад-вперед солидно, как этого требовала его полнота, Франтишек Голомбек. Он доброжелательно улыбнулся ей.
— Добрый день, вернее, добрый вечер, пан директор, — сказала Дося. — Видела я, видела — жена ваша сегодня с сыновьями пришла. Какие уже большие мальчики!
— А вы не знаете, скоро кончится? — спросил Голомбек.
— Сейчас конец, уже трубы играют, — воскликнула Дося.
— Жена у вас раздевалась?
— Нет, пани директорша всегда раздевается там, дальше, у Вероники. Но вы туда не ходите, там всегда давка.
Сквозь триумфальные звуки фанфар наверху почувствовалось оживление, на лестницах появились капельдинеры в красных куртках. Шоферы, гревшиеся в вестибюле, вышли на улицу. Несколько слушателей уже спустились по лестнице, быстро оделись и покинули филармонию. По всему было видно, что концерт подходит к концу.
Неожиданно двустворчатые стеклянные двери распахнулись, и в вестибюль стремительно вошла высокая молодая девушка. Чуть не столкнувшись с Голомбеком, она отпрянула, а затем, хотя лицо ее было озабоченным, невольно улыбнулась и поклонилась ему.
— Чуть не сшибла вас, пан директор! Простите, я очень спешу к тете.
И она подошла к барьеру.
— Где у тебя глаза, Ядька! — недовольно проговорила Дося. — Если болтать пришла, так могла бы и пораньше. А то концерт уж кончается.
Ядвига, она же «Жермена», так странно посмотрела на Досю, что та встревожилась.
— Что случилось? Да ты в своем уме? — спросила Дося раздраженно.
— Дядю сегодня днем арестовали. У нас обыск, — сказала «Жермена» самым обычным тоном.
— Во имя отца и сына… — прошептала, бледнея, Дося. — А что случилось?
— Откуда я знаю? Пришел там какой-то и сказал. А сейчас дворничиха не пустила меня наверх: жандармы, говорит, пришли, обыск делают.
— Какие еще жандармы, теперь нет жандармов.
— А я что, разбираюсь в этом?! Пришли — и все…
— О боже мой… — заломила руки Дося. — Что теперь Янка будет делать?
— Вот-вот… — прошептала «Жермена». — Что теперь делать?
Голомбек, заинтересовавшись их разговором, подошел к клетушке.
— Что случилось? — спросил он. — У вас обеих такие лица…
— Ничего, ничего, — быстро ответила Вевюрская и тайком подмигнула Яде, чтобы та помалкивала.
В эту минуту наверху раздался гром аплодисментов, и сразу же по мраморной лестнице волной хлынула публика. Все неслись, как будто спасаясь от преследования, у каждого мужчины на пальце болтался медный номерок. Вестибюль вдруг захлестнуло людским половодьем, хотя наверху еще гремели аплодисменты. Возле гардероба скопилась толпа, началась даже легкая давка.
У Доси, когда она брала первые номерки, руки так и прыгали, и она хватала не ту одежду. Толпившиеся у вешалок люди теряли терпение.
— Побыстрее, милая, побыстрее! — Кричали ей.
— Сейчас, сейчас, сейчас! — откликалась Вевюрская и совала кому-то в руки чужое пальто.
— Да сюда же, сюда!
«Жермена», на шаг отступив от барьера, терпеливо выжидала, пока кончится вся эта толчея. Людей это раздражало.
— Что вы тут стоите? И без того тесно, — проворчал высокий худой господин.
— Значит, надо, если стою, — отрезала она. — Voila!
Господин окинул ее удивленным взглядом.
Сыновья Голомбека вышли из зала довольно поздно, но зато с лестницы помчались как ураган. Оля сказала мужу:
— Побудь с детьми, я получу пальто.
Анджей молча схватил отца за руку. Ему столько хотелось рассказать, и слова все сразу так просились на язык, что в первую минуту он не мог произнести ни звука. Антек опередил его:
— Панна Эльжбета пела, как ангел! И пан Губе был.
— А Губерта не взял с собой, — выпалил наконец Анджей. — И еще сказал, что Губерт пошел к товарищу. А это вовсе и неправда. Зачем он врет?