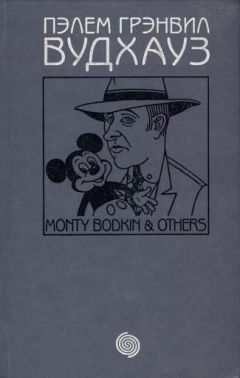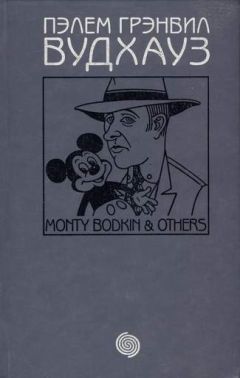Когда он очнулся, никого рядом не было, и в воздухе носилась вечерняя прохлада, лишающая очарования отдых на природе. Чувствуя, что теперь лучше бы допить шампанское, Лльюэлин поднялся к себе и прикончил бутылку. После этого он спустился вниз, готовый к любой судьбе.[141] Поразительно, как изменил эликсир его мировоззрение! Если кто помнит, в баре «Веселая креветка» с Монти произошло примерно то же самое. Вероятно, в лучших сортах шампанского есть что-то волшебное, не только оживляющее тело, но и вдохновляющее душу.
Тут он заметил, что откуда-то доносятся неприятные звуки. Сосредоточившись, он установил, что шум исходит из гостиной. В следующий момент он распознал голос Грейс, которая кого-то отчитывала.
Ему не потребовалось долго размышлять, чтобы догадаться, кто это. Очевидно, то был его друг Бодкин, и от этой мысли шампанское забурлило у него в венах. Он грозно нахмурился. Он не мог допустить, чтобы с его другом так обращались.
Айвор Лльюэлин открыл дверь и смело вошел в гостиную.
Как он и предполагал, Грейс стояла посреди комнаты подобно Статуе Свободы, а Монти стоял рядом и выглядел так, словно его нарезали кусочками. Судя по всему, он впервые видел великую актрису в одной из ее любимых ролей. Он ожидал, что, когда он вернется без жемчуга и без более или менее благовидного оправдания, в доме будет шум, но его воображение просто меркло перед открывшейся реальностью. Монти был похож на человека, который со свечой в руке ищет, где течет из трубы газ.
Мистер Лльюэлин, напротив, был собран и спокоен, как пристало тому, кто только что выпил кварту первоклассного шампанского. Он чувствовал себя хозяином в доме и не собирался терпеть никаких беспорядков.
— Что здесь происходит? — спросил он.
— Уходи, — ответила Грейс.
— То есть как, уходи? Я только вошел. А, Бодкин, привет! Как съездил?
— Очень выгодно, — съязвила Грейс— Он прихватил мой жемчуг. Я же тебе говорила!
— Да ну!
— И это все, что ты можешь сказать?
— А что такого? В этом доме нельзя говорить «Да ну»? Надо было меня предупредить.
Если бы Грейс не знала, что муж не может раздобыть спиртных напитков, она бы решила, что он навеселе, а так — отнесла некую медлительность его мысли на счет слабоумия. При всем его оглушительном успехе в кинобизнесе, она считала, что имей он хоть на унцию больше разума, он был бы полоумным. Как ни странно, остальные его жены придерживались того же мнения.
— Тебя, видимо, не интересует, что я потеряла ожерелье стоимостью в пятьдесят тысяч долларов.
— Ха!
— Что ты сказал?
— Я сказал «Ха!»
— Почему?
— Потому что мне хочется. Если мне хочется сказать «Ха», я его и говорю. Вот такой я человек. Прямой и честный. Не люблю ходить вокруг да около. И вообще, что это за бред? Как это — Бодкин украл жемчуг?
— Может быть, ты послушаешь?
— Замечательно! Давай, начинай, Бодкин!
— Я думаю, будет проще, если я тебе перескажу. Он говорит, что по дороге в Брайтон его ограбили.
— Как раз об этом я тебя и предупреждал. Поехать в Брайтон — все равно, что в Нью-Йорке выйти ночью в Центральный Парк. За каждым кустом по бандиту.
В холле зазвонил телефон.
— Бодкин, ответь, — сказал Лльюэлин. — Если меня, скажи, что я вышел.
— Стойте на месте, — сказала Грейс. Монти остался стоять.
— Мистер Бодкин рассказывает, — начала Грейс, — будто на него напал Эдер и угрожал ему пистолетом.
— Очень хорошо, — сказал Лльюэлин, как удовлетворенный книгой критик. — Нет, в самом деле здорово! Эдер? Мой слуга?
— Да.
— Что ж, это все объясняет! Я никогда не доверял этому типу. Бодкина надо пожалеть, а не ругать. Что тут можно сделать, если тебе грозят револьвером? Да, история замечательная.
— Если в нее поверить.
— А ты не поверила?
— Нет.
— Тебе не угодишь. Мне эта история нравится. А, Санди, заходи. Мы вот обсуждаем…
Последние слова были адресованы Санди Миллер, которая ворвалась в комнату с листком бумаги и была совсем непохожа на Санди, которая плакала на скамейке. Глаза ее горели, нос дрожал, тело подергивалось, словно она — девушка из телерекламы, которую только что уговорили попробовать новый чудодейственный шампунь.
— Монти! — вскричала она.
Лльюэлин испытывал к Санди отеческую нежность, но не мог позволить такого обращения.
— Нельзя бегать и кричать «Монти», — сказал он сурово. — Если хочешь что-нибудь сообщить, предупреди хотя бы.
— У меня для него телеграмма. Я ее приняла по телефону.
— Отпечатай в трех экземплярах и передай дальше.
— От Гертруды Баттервик. Монти! Она разорвала помолвку!
Монти вернулся к жизни так внезапно, что чуть не вывихнул спину. Он распустился как цветок, политый добрым садовником. Чувства его были такими, что он забыл о Грейс.
— Санди!
— Я думала, ты обрадуешься.
— Не то слово! Совсем не то! Ты знаешь, что это значит? Мы можем пожениться!
— Скорей бы.
— Я люблю тебя, Санди!
— И я! В смысле, я тебя тоже! То есть люблю.
— О, счастье! О, радость!
— Мистер БОДКИН! — сказала Грейс.
— Не перебивай, — сказал Лльюэлин. — Разве у тебя нет уважения к двум молодым сердцам, соединившимся весною? Что ж, это действительно счастливый конец. Я предчувствовал, что все хорошо кончится. Немножко старомодно, да, но публика это любит.
Опять зазвонил телефон.
— Ответь, Бодкин. Нет, я сам отвечу. Может быть, это викарий хочет попросить денег на починку местного органа. Сейчас я ему не откажу.
Он вышел и сразу вернулся.
— Это тебя, Грейс. Мэвис. Наконец-то мы одни, — сказал он, когда дверь закрылась. — Теперь я смогу поговорить с тобой, недомерок. Бодкин рассказал мне о твоем плане насчет жемчуга. Я очень долго думал и пришел к выводу, что в нем что-то есть. По некоторым причинам я был против, но сейчас я всеми руками «за». Я сильный человек, и никогда не боюсь признавать ошибки. Когда Грейс вернется, я скажу ей: «Грейс…»
Он бы продолжил свою речь, но дверь открылась, в комнату вошла Грейс. Ее волнение, и до этого заметное невооруженному глазу, достигло новых высот. Она перешла к сути, не размениваясь на мелочи.
— Мэвис говорит, что Джеймс Пондер говорит, что жемчуг поддельный.
Мистер Лльюэлин остался спокойным и недвижным. Он лениво зевнул и даже небрежно отряхнул с рукава пылинку.
— Вряд ли тебе надо об этом сообщать, — кротко сказал он.
— Что ты имеешь в виду?
— Я так и думал, что он это обнаружит. Даже я, не эксперт, и то заметил, что это японская подделка. Если бы ты спросила у меня совета, я бы тебе сказал, что всех не обманешь.
— О чем ты говоришь?! Ты намекаешь…
— А что же еще? Я знаю твой обычный ход мысли. Ты понимала, что придется отдать ожерелье Мэвис, а раз тебе все равно не владеть им, можно его продать и выручить деньги. Ты думала, что Мэвис все равно не догадается. Ты же не могла предвидеть, что она соберется замуж за ювелира. Ты, наверное, думала, что на ней вообще никто не женится. Вот и решила попытать счастья, а вышла промашка. Что ж, чтобы не расстраивать Мэвис, придется мне купить еще одно ожерелье. Конечно, отчасти, я хочу помочь тебе выбраться сухой из воды, но пусть это будет хорошим уроком: не жульничай, играй по-честному! Иди и больше не греши.[142] А я попытаюсь вздремнуть, — сказал Лльюэлин и удалился.
— Вернись! — вскрикнула Грейс, но он уже ушел. Молча, с горящими глазами она кинулась за ним, и тишина, словно пластырь, начала свое целительное дело.
— Что, ты думаешь, эта мымра с ним сделает? — спросил Монти. Он любил Лльюэлина и боялся за него.
— И думать не хочу, — ответила Санди.
— Он, должно быть, неплох в ближнем бою, но и она — достойный противник. К тому же, она быстрее бегает.
— Почему он на ней женился?
— Он мне объяснил. Ему было нечем заняться. Они вдумчиво помолчали, думая об одном и том же.
— А ты видела эту «Страсть в Париже»? — спросил Монти.
— Нет. А ты?
— И я не видел. Лльюэлин рассказывал, что за время съемок она сжила со свету трех режиссеров, двух помрежей и одну ассистентку. Они так и не оправились.
— При чем здесь ассистентка?
— Я думаю, попалась под руку. Они опять вдумчиво помолчали.
— Маленькая, скромная, в очках…
— Кто?
— Эта ассистентка.
— Почему в очках?
— Что? Очень может быть.
Наступила третья пауза.
— Надеюсь, тебя это все не очень пугает? — сказала Санди.
— Что?
— Вот, ты заглянул в семейную жизнь. Я ведь не хочу быть такой, как Грейс.
— Ты и не будешь.
— Я думаю, со мной тебе будет хорошо.
— Еще как!
— Я не такая сердитая, как Гертруда.
— А откуда ты знаешь, что она сердитая?