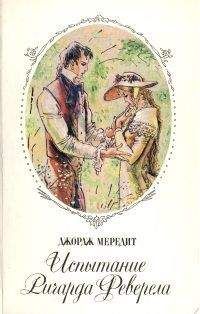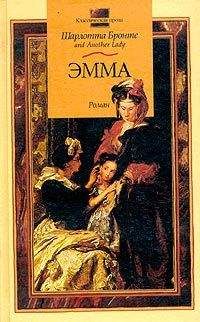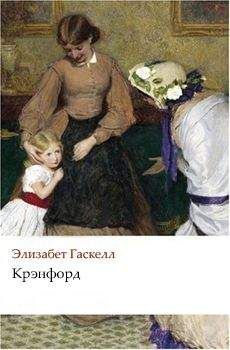— Я обрела в ней вторую дочь, дорогой мой. Ах, будьте же счастливы оба!
Все они теперь восхваляли Люси. С этого начал и отец, оставшись с сыном вдвоем.
— Бедная Хелин! Твоя жена стала для нее большою поддержкой, Ричард. Думается, без нее Хелин бы просто погибла. Никогда еще мне не доводилось встречать в столь прелестном юном существе такой развитый ум и такое стойкое чувство долга.
Всеми этими славословиями в честь Люси ему хотелось доставить удовольствие Ричарду, и всего на несколько часов раньше он бы этого безусловно достиг. Теперь же результат оказался прямо противоположным.
— Насколько я понимаю, вы хвалите сделанный мною выбор, сэр?
Ричард говорил спокойно, но в тоне его можно было заметить иронию. Говорить иначе он все равно бы не мог, так велика была осевшая в душе горечь.
— Я нахожу его очень удачным, — сказал его отец. Чуткая натура его уловила тон, каким говорил сын, и само его обращение, и вспыхнувшие в нем отцовские чувства теперь застыли. Ричард не сделал ни шага в его сторону. Он прислонился к камину, вперив глаза в пол, и поднимал их, только когда говорил. Удачен! Очень удачен! Когда он стал перебирать события последних лет и вспомнил, как он был уверен, что отец его непременно полюбит Люси, стоит ему только узнать ее, вспомнил, как тщетны были все его усилия уговорить ее поехать вместе с ним, жгучая ярость начисто заглушила в нем голос рассудка. Но мог ли он в чем-нибудь винить это кроткое существо? Кого же тогда ему винить? Себя самого? Не одного себя. Отца? И да, и нет. Вина была тут, вина была там; была всюду и вместе с тем — нигде, и наш герой теперь возлагал ее на судьбу; в гневе взирал он на небеса, сам не свой от ярости и тоски.
— Ричард, — сказал его отец, подходя к нему ближе, — час уже поздний. Я не хочу, чтобы Люси тебя так долго ждала, иначе я бы как следует объяснился с тобою, и я полагаю — или во всяком случае надеюсь, — ты бы меня оправдал. У меня были основания думать, что ты не только злоупотребил моим доверием, но и грубо меня обманул. Теперь я знаю, что это не так. Я ошибся. Многое в нашей с тобой размолвке проистекает от этой ошибки. Но ты женился совсем еще мальчиком: ты совершенно еще не знал жизни, плохо знал себя самого. Для того чтобы уберечь тебя от подстерегающих в грядущем опасностей — ибо есть некий период, когда зрелые мужчины и женщины, поженившиеся совсем молодыми, более подвержены искушениям, нежели в юные годы, хотя и более стойки, — так вот, для того чтобы уберечь тебя, я решил, что ты должен испытать самоотречение и узнать побольше о своих ближних того и другого пола, прежде чем ты укрепишься в том положении, которое иначе будет ненадежным, какими бы достоинствами ни обладала избранница твоего сердца. Без этого Система моя применительно к тебе оказалась бы несовершенной, и последствия этого ты бы неминуемо ощутил. Сейчас все это уже позади. Ты — мужчина. Опасности, которые грозили тебе, думается мне, миновали. Я желаю обоим вам счастья, и благословляю вас, и молю господа обоих вас направить и укрепить.
Сэр Остин не сознавал, что произносимое им напутствие лишено искренности. Но независимо от этого слова его все равно были для его сына пустым звуком; все эти разговоры о миновавших его опасностях и о счастье выглядели теперь сплошною насмешкой.
Ричард холодно пожал протянутую отцом руку.
— Мы пойдем сейчас к ней, — сказал баронет, — я прощусь с тобой у ее двери.
Не пошевелившись, пристально глядя на отца, с суровым лицом, которое вдруг залилось краской, Ричард сказал:
— А как по-вашему, сэр, муж, который изменил жене, имеет право войти к ней в спальню?
Сказанное было ужасно, было жестоко: Ричард все это знал. Он не нуждался ни в чьих советах, он твердо решил, как ему следует поступить. Вчера еще он бы внимательно выслушал отца, и обвинил во всем себя одного, и смиренно покаялся бы во всем перед богом и перед нею; сейчас, в отчаянии своем, порожденном горем, он так же не испытывал ни малейшей жалости ни к одному существу на свете, как и к себе самому. Сэр Остин нахмурил свои низко нависшие брови.
— Что ты такое сказал, Ричард?
Умом он постигал такую возможность и раньше, но это было худшее из всего, что он мог услышать от сына; то, чего он однажды уже боялся и что подозревал, но подозрения потом улеглись и он перестал о них думать, — неужели же это произошло?
— Когда мы в последний раз расставались с вами, я сказал вам все, только другими словами, — напомнил ему Ричард. — Как по-вашему, что же другое могло заставить меня так от нее отдалиться?
— Зачем же ты тогда сейчас к ней вернулся? — вскричал разгневанный видимой черствостью отец.
— Это касается только нас двоих, — гласил ответ. Сэр Остин бессильно опустился в кресло. Размышлять уже было не о чем.
— Ты не посмеешь подойти к ней без того, чтобы… — гневно начал он.
— Да, сэр, — прервал его Ричард, — не посмею. Опасения ваши напрасны.
— Так, значит, у тебя не было любви к жене?
— Это у меня-то не было любви? — по лицу Ричарда скользнула усмешка.
— Ты был так привязан к той… к той женщине?
— Привязан? Если вы спросите меня, была ли у меня к ней любовь, я вам отвечу, что не было никакой.
О жалкая человеческая природа! В таком случае, как же? Почему? Множество вопросов роилось в душе баронета. Бесси Берри могла бы ответить на любой.
— Бедное дитя! Бедное дитя! — восклицал он, преисполненный жалости к Люси, расхаживая взад и вперед по комнате. Он думал о ней и, зная, сколь самозабвенно она любит его сына, зная, какое у нее преданное всепрощающее сердце, находил, что надо ее пощадить и не обрушивать на нее это новое горе.
Он пытался убедить Ричарда не говорить ей. Он сказал, что тяжесть этого греха неодинакова для женщин и мужчин, и подкрепил эту свою мысль цитатами, относящимися как к физической, так и к нравственной стороне. Доказательства эти завели его так далеко, что и в самом деле можно было подумать, что мужской грех в его глазах поистине ничтожен. Но слова его повисали в воздухе.
— Она должна это знать, — сурово сказал Ричард. — Позвольте, я сейчас к ней пройду, сэр.
Сэр Остин удерживал его, увещевал, перечил себе самому, сбивался, сводил на нет все созданные им теории. Решение его сына было непоколебимо. В конце концов, после того как они распрощались, пожелав друг другу спокойной ночи, он понял, что счастье Рейнема зависит от того, простит Люси его сына или нет. Он верил в ее доброе сердце, но все-таки было странно, что именно к этому все свелось. Кого же теперь во всем винить — науку или человеческую природу?
Он остался в библиотеке, продолжая раздумывать над этим вопросом, то преисполненный презрения к сыну, то снова одолеваемый непривычными для него сомнениями в собственной правоте; потрясенный, вызывающий жалость, даже если нанесенный ему сыном удар, от которого теперь он так жестоко страдал, и был заслужен.
Ричард сперва направился к Тому Бейквелу, и, как ни крепко тот спал, разбудил его, и велел оседлать ему лошадь и через час явиться к восточным воротам парка. Единственное, на что был способен Том по части всего героического — это быть преданным слугою своего господина, и, выполняя эти свои обязанности, он был убежден, что тем самым так или иначе приобщается к его славным деяниям. Он вскочил и, сделав поистине героическое усилие, окунул голову в холодную воду.
— Все будет исполнено, сэр, — заверил он.
— Послушай, Том! Если я не вернусь в Рейнем, деньги тебе все равно будут платить.
— Что мне деньги! Главное — возвращайтесь сами, мистер Ричард, — ответил Том.
— А ты стереги ее и смотри, чтобы никто не сделал ей ничего худого, Том.
— Миссис Ричард, сэр? — Том удивленно на него посмотрел. — Упаси бог, мистер Ричард… да что вы такое…
— Не спрашивай меня ни о чем. Делай то, что я тебе говорю.
— Ну что вы, сэр! Все будет сделано. Как тогда, на острове Уайт.
От одного упоминания об острове кровь в Ричарде вскипела, и ему пришлось некоторое время походить взад и вперед, прежде чем решиться постучать в комнату Люси. Стоило ему только вспомнить обо всей этой позорной конспирации, сделавшей его таким приниженным и несчастным, как последние остатки мужества его покинули.
На стук его ответил нежный любимый голос. Он отворил дверь — и вот он перед ней. Люси шагнула ему навстречу. За те несколько мгновений, которые прошли, прежде чем он заключил ее в свои объятья, он успел увидеть происшедшую в ней перемену. Он оставил ее девочкой — сейчас перед ним была женщина, расцветшая женщина; как она ни была бледна, стоило ей только увидеть его, как сразу же все зарделось — лицо, и шея, и грудь, проглядывавшая из свободного домашнего платья, — и от ощущения этой удивительной красоты сердце его застучало, а в глазах все поплыло.
— Милый! Милая! — вскричали оба и приникли друг к другу, и губы их слились в поцелуе.