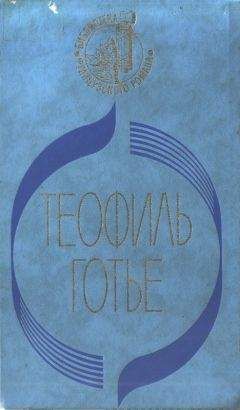Пролетая от моста до поверхности реки, он успел подумать о том, что самоубийство — залог успеха его поэмы, что книгопродавец сможет сбыть, по крайней мере, дюжину экземпляров; от поверхности воды до самого глубокого места он старался угадать, какую придумают подоплеку его самоубийству газеты. Погода стояла дивная: солнечные лучи пробивались сквозь толщу воды, которая струилась над ним, отсвечивая топазом, и освещали дно, выстланное гвоздями, черепками, осколками. Пескари плыли рядом и повиливали хвостиками; гулкий голос Сены гудел ему прямо в ухо. И тут его осенила мысль, что, раз он так хорош собою, значит, будет очень недурен и став трупом и произведет величайшую сенсацию в морге. Ему чудились охи и вздохи сердобольных кумушек, восклицания; «Какая у него белоснежная кожа, а какой стан! А нога, как у офицера! Жалость-то какая!» О всем этом было так приятно грезить на дне реки. Однако Родольф задыхался без воздуха, легкие сдавливало, и было нестерпимо больно, он не выдержал и, забыв о том, как позорно возвращаться на землю, где его видели в ночном колпаке, оттолкнулся ногой от дна и стрелой взлетел вверх. Хрустальный свод все прояснялся и прояснялся, еще два-три рывка, и Родольф выплыл на поверхность реки и мог всласть надышаться.
Несметная толпа покрывала набережные, со всех сторон неслись возгласы: «Вот он, вот он!» Родольф плавал, как форель, и мог бы выплыть из мельничного шлюза; заметив, что на него устремлены все взгляды, он из честолюбия поплыл саженками, показывая неслыханное мастерство. Шляпа его плыла рядом с тростью — он их выловил, надел шляпу на голову и, работая одной рукой, другой помахивал тросточкой, к великому изумлению всех зевак.
— Да это маркиз де Куртиврон, — говорил один.
— Да это полковник Аморос, — говорил другой, — тот, который занимается гимнастическими упражнениями.
— Это фигляр, — добавлял третий
— Это любитель биться об заклад! — кричал четвертый.
Но никто из этих грубых существ, разделяющих с жирафом преимущество лицезреть небо, не мог догадаться, о пылкий и загадочный Родольф, отчего ты бросился с Королевского моста, а если бы они узнали, что все случилось из-за ночного колпака, то не поняли бы тебя и сказали, что ты просто болван, и, разумеется, были бы не правы.
Родольф, нарядно одетый и улыбающийся, доплыл до берега за несколько минут, ну а так как промок он до нитки и в таком виде идти по городу было просто немыслимо, кто-то услужливо сбегал за извозчиком, он сел в фиакр и вернулся восвояси.
Мариетта разинула рот от изумления, увидя, что с ее хозяина, как с морского бога, струится вода. Родольф поведал ей обо всем, и Мариетте, любившей Родольфа, хотя он и был ее господином, причем платил ей весьма исправно и делал всевозможные подарки, — было не до смеха, когда она слушала о его злоключениях.
— Держите, вот ваши домашние туфли, — говорила она дружеским тоном, — вот вам и Том, ваш любимый котик, а вот и книга Рабле; не угодно ли что-нибудь еще? Да и к тому же, если хотите знать, колпак вас не портит, и было бы у вас на голове две, а то и три дюжины колпаков, я бы нашла, что они вам к лицу, — лично я.
Мариетта упирала на я и делала это с лучшими намерениями. Как я уже говорил, Мариетта была красивая, славная девушка, что же касается того, как истолковал Родольф это благородное односложное словечко, дражайшие читательницы, передавать я не стану из боязни оскорбить ваше целомудрие; соблаговолите перейти в соседнюю комнату, дабы вас не стесняли его комментарии. Согласитесь же, что мой герой — отъявленный негодяй, и объясните, отчего всякий раз, когда его охватывает поэтическая страсть, разрешается она прозаически, обращаясь на Мариетту?
О Мариетта, не ревнуй, пусть твой повелитель влюбляется сразу в двадцать женщин. Ты только выиграешь.
Два раза за один день ты изменил кумиру своего сердца. Безнравственный тип! Просто не хочется больше и рассказывать о тебе, ибо не стоишь ты того, чтобы люди знали о твоих деяниях и поведении, и если ты не исправишься, я от тебя отказываюсь.
— Фи, фи, со служанкой…
— Да, сударыня, со служанкой.
— И это человек, уважающий себя!
— Уверяю вас, Родольф уважает себя больше, чем король и даже два короля, вместе взятых, и не посторонился бы перед самим императором.
— Да если б она хоть была женщиной порядочной…
— А разве Мариетта не порядочная женщина? Я-то ее видел, и разрешите мне придерживаться иного мнения. Прежде всего ей недавно минуло всего лишь двадцать лет. Она крепка и свежа, прекрасней ее глаз нет на свете, и она, как грум, прислуживает Родольфу и порою даже балует его, наделяя лакомствами и дружески похлопывая по щеке; ноготки у нее чистые, а кожа белая, как и у вас, да, пожалуй, почище и побелее, а ведь она не старается опорочить ваши совершенства. Право, всего этого достаточно, чтобы быть особой порядочной.
— Уж не дамой ли из нашего света, из нашего порядочного общества?
— А я и не подозревал, что она с другого света; что же касается порядочного общества, то, с вашего разрешения, замечу: если б Родольф жил не с Мариеттой, а с одной из ваших приятельниц или даже с вами (это всего лишь предположение, целомудренная читательница), вы уже не были бы порядочными женщинами, по крайней мере, в своем собственном представлении, не так ли? Я же не считаю, что подобные пустяки мешают быть порядочной, — напротив.
Да и из жизни великих людей можно набрать предостаточно примеров. Великие из великих любили гризеток; служанка колотила Руссо, знаменитые поэты боготворили продавщиц жареной картошки и так далее и тому подобное.
Впрочем, все вышесказанное служит лишь для оправдания моего героя — Родольфа, с которым прошу меня не смешивать, ибо я бы умер со стыда, если бы бесчестно поступил с женщиной, — да и ни за что в жизни себе этого и не позволил, ведь я бы прослыл безнравственным субъектом и наверняка лишился бы почтенной репутации.
Я приводил ему самые убедительные доказательства на сей счет, но он, тонкая бестия, на все находил ответ, весьма нелепо звучавший для человека с сильными страстями. Правда, в ту пору ему еще не было двадцати лет, и он не думал об артистической изысканности.
— Друг мой, ты просто глупец (любезный читатель и милая читательница — если только чудовищная нескромность этой книги не отпугнет особ слабого пола, не верьте ни единому его слову, право, я неглуп, но Родольф обычно так выражался, заводя со мной беседу), есть у Мейнара двустишие, приблизительно такое:
Тот в дураках остался,
Кто шесть предолгих лет за юбкою таскался.
По сути, оно содержит больше смысла и философской глубины, чем платонический вздор и сентиментальная дребедень, которой ты прожужжал мне уши.
Мариетте я никогда не посвящал мадригалы, не объяснялся в любви, а она щедро, от всей души дарует мне то, чего женщина порядочная сначала заставит меня ждать полгода, а потом все же отдаст, но, отдавая, засыплет тирадами о нравственности, благопристойности и забвении долга. Ну а раз цель одна, то наикратчайшая дорога — наилучшая. Мариетта и есть наикратчайшая, и я предпочитаю Мариетту.
Терпеть не могу, когда приходится делать вид, что прибегаешь к насилию, домогаясь того, чего хочется самой даме, мерзкий прием, на который она вас толкает, позволяет ей увильнуть от ответственности. Порядочных женщин всегда принуждают сдаться. У нас, мужчин, видите ли, нет чести! Да напротив, у нас ее избыток, — раз мы отнимаем честь у них, следовательно, вместе с нашей это будет равняться двум по всем правилам арифметики, если я умею считать. Их слабостью якобы постыдно злоупотребили; они и сами не понимают, как все это случилось (а я тем более, поскольку к повествованию я непричастен). Ну а раз уж так случилось, дальше они не видят никаких препятствий и готовы все начать сызнова и не прочь пасть снова и снова, теперь зная наверняка, что выйдут из воды сухими. О вы, добродетельные души! Насколько мне известно, о вас еще никогда не сообщалось в «Справочном листке».
Кроме того, с вами частенько происходит то, что бывает в буддийских пагодах: после того как вы обойдете великолепнейшее сооружение ярус за ярусом, прошагаете часа два по разузоренным и раззолоченным галереям, после того как перед вами откроются и за вами закроются двадцать дверей и вы, наконец, попадете в святилище, в святая святых, вы обнаружите только старую паршивую обезьяну, — она сидит в деревянной клетке и ищет блох.
Так вот, сорвав платье благопристойности, нижнюю юбку стыдливости и рубашку добродетели, сбросив корсет и ватные валики, кольчугу из стеганой лощенки, вы будете вознаграждены за труды свои весьма мало привлекательными мощами…
Первая часть этой тирады принадлежит, пожалуй, Аддисону, вторая, безусловно, — мне; впрочем, не все ли равно!