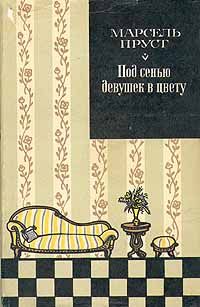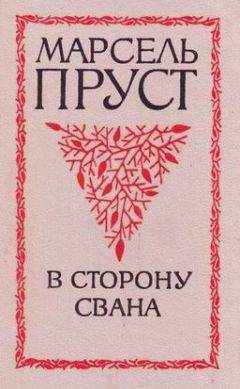Если эта своеобразная популярность, которой достигла Альбертина, как будто и не должна была повлечь за собой никаких практических результатов, то она придала подруге Андре черты, характерные для людей, которые, всегда пользуясь успехом, никогда не навязываются (черты, встречающиеся по тем же причинам в совершенно противоположном кругу — у дам, отличающихся высокой изысканностью) и не выставляют напоказ своих успехов, скорее их скрывают. Она никогда не говорила: «Ему хочется видеть меня», обо всех отзывалась очень благожелательно и таким тоном, как будто у этих людей и в мыслях не было искать с нею знакомства. Если речь заходила о молодом человеке, который несколько минут тому назад обращался к ней с глазу на глаз с самыми горькими упреками, потому что она отказала ему в свидании, она, далекая от мысли хвастаться этим перед всеми и вовсе не сердясь на него, с похвалой отзывалась: «Он такой милый мальчик». Ей даже надоело нравиться, потому что это вынуждало огорчать других, между тем как по своей природе она любила доставлять удовольствие. Она настолько любила доставлять удовольствие, что даже прибегала к особой форме лжи, свойственной некоторым практическим людям, лицам, делающим карьеру. Этот вид неискренности, встречающийся, впрочем, в зачаточном состоянии у огромного числа людей, состоит в том, что человек не умеет ограничиться одним поступком, который доставил бы удовольствие одному лицу. Если, например, тетке Альбертины хотелось, чтобы племянница сопровождала ее на какое-нибудь мало интересное собрание, Альбертина, отправляясь туда, могла бы успокоиться на том, что это приятно ее тетке, и тем самым получить нравственное удовлетворение. Но, встречая со стороны хозяев дома ласковый прием, она предпочитала сказать им, что ей так давно хотелось повидаться с ними, что она воспользовалась этим случаем и попросила у тетки позволения сопровождать ее. Этого еще было мало: в числе гостей оказывалась одна из приятельниц Альбертины, у которой было большое горе. Альбертина говорила ей: «Я не хотела оставить тебя одну, я подумала: тебе будет легче, если мы будем вместе. Может быть, ты желала бы уйти отсюда, пойти куда-нибудь, я сделаю все, чего ты пожелаешь, мне больше всего хочется, чтобы ты не была такой грустной» (что, впрочем, отчасти было правдой). Однако иногда случалось, что фиктивная цель разрушала цель действительную. Например, Альбертина, которой нужно было попросить об услуге для одной своей приятельницы, отправлялась ради этого к какой-нибудь знакомой даме. Но, придя к этой даме, доброй и симпатичной, девушка, бессознательно повиновавшаяся принципу извлечения многократной пользы из одного и того же поступка, находила, что более мило будет, если она сделает вид, что пришла только ради удовольствия, которое предвкушала от встречи с этой дамой. Даму бесконечно трогало, что Альбертина из одной лишь дружбы к ней проделала такой долгий путь. Видя, что дама в полном умилении, Альбертина начинала еще больше любить ее. Но происходило следующее: она так живо чувствовала прелесть дружбы, ради которой будто бы пришла сюда, что опасалась, как бы эта дама не усомнилась в ее на самом деле искренних чувствах, если она попросит об услуге для приятельницы. Дама, чего доброго, подумает, что Альбертина пришла ради этого, что и было правдой, но сделает вывод, что свидание с ней само по себе не доставляет удовольствия Альбертине, что было неверно. Таким образом, Альбертина уходила, не попросив об услуге, как те мужчины, которые, в надежде снискать благосклонность женщины, бывают так любезны с ней, что воздерживаются от признания в любви, лишь бы эта любезность сохранила характер благородства. В других случаях нельзя было бы сказать, чтобы действительная цель приносилась в жертву цели второстепенной, придуманной задним числом, но первая была настолько противоположна второй, что, если бы человек, которого Альбертина приводила в умиление рассказом о первой цели, узнал о второй, его радость тотчас же перешла бы в самое глубокое огорчение. В дальнейшем, много позднее, наше повествование поможет лучше понять это противоречие. Покажем на примере, заимствованном из области фактов совсем другого порядка, что эти противоречия весьма часты в самых различных жизненных положениях. Муж поселил свою любовницу в городе, где стоит его полк. Его жена, оставаясь в Париже и более или менее зная правду, приходит в отчаяние, пишет мужу ревнивые письма. Но вот любовнице надо на один день приехать в Париж. Муж не может устоять против ее просьб и добывает отпуск на сутки, чтобы сопровождать ее. Но так как он добр и ему больно огорчать свою жену, он приходит к ней и, проливая искренние слезы, говорит, что, напуганный ее письмами, он нашел способ вырваться, чтобы утешить и обнять ее. Таким образом он нашел средство одной и той же поездкой доказать свою любовь и любовнице, и жене. Но если б эта последняя узнала, зачем он приезжал в Париж, радость ее, наверно, превратилась бы в горе, разве только свидание с неблагодарным дало ей, несмотря ни на что, счастье большее, чем те муки, которые ей причиняла его ложь. В числе людей, которые, по-моему, наиболее последовательно прибегали к системе множественных целей, находился г-н де Норпуа. Иногда он брал на себя роль посредника между двумя поссорившимися друзьями, и благодаря этому его называли самым предупредительным человеком. Но ему мало было создать впечатление, что он оказывает услугу тому, кто просил его об этом, — он и другой стороне представлял дело в таком свете, как будто этот шаг он предпринял не по просьбе первого, а в интересах второго, что легко было внушить собеседнику, уже находившемуся под влиянием мысли, что перед ним — «самый предупредительный человек». Таким образом, ведя двойную игру, делая то, что на биржевом языке называют двойным счётом, он никогда не подвергал никакому риску свое влияние и, оказывая услуги, не расточал кредита, которым пользовался, а увеличивал его. С другой стороны, каждая услуга, оказанная как будто вдвойне, тем более способствовала его репутации услужливого, вдобавок умело услужливого друга, который действует не зря, все начинания которого приводят к успеху, чему доказательством служила благодарность обеих заинтересованных сторон. Эта двойственность в услужливости, а также и отклонения от нее, характерные в отношении тех или иных свойств для всякого человека, были существенным элементом личности г-на де Норпуа. И часто в министерстве он пользовался услугами моего отца, которому внушал — настолько тот был наивен, — что он ему же оказывает услугу.
Альбертина, которая нравилась другим больше, чем она того хотела, и не имела надобности трубить о своих успехах, промолчала о сцене, которая разыгралась между нами у ее постели и которую дурнушка разгласила бы всему миру. Впрочем, я не мог объяснить себе ее поведения во время этой сцены. Что касается гипотезы о ее абсолютной добродетельности (гипотезы, при помощи которой я сперва объяснял то резкое сопротивление, каким Альбертина встретила мой поцелуй и мои ласки, и которая, впрочем, вовсе не входила в мои представления о доброте, о глубокой честности моей приятельницы), то я несколько раз ее перерабатывал. Эта гипотеза решительно противоречила той, которую я построил в день первой встречи с Альбертиной. К тому же столько поступков иного рода, которые все были исполнены внимания ко мне (внимания ласкового, иногда беспокойного, встревоженного ревнивыми опасениями, не предпочитаю ли я Андре), окружало со всех сторон грубое движение, которым, чтобы избавиться от меня, она схватилась за звонок. Так зачем же она звала меня провести вечер у ее постели? Зачем она все время говорила нежные слова? На чем основывается желание видеть друга, опасение, что он отдаст предпочтение вашей приятельнице, старания доставить ему удовольствие, романическим тоном сделанное обещание, что никто не узнает, что он провел вечер вместе с вами, если вы отказываете ему в удовольствии столь простом и если для вас это — не удовольствие? Я все-таки не мог поверить, чтобы добродетельность Альбертины заходила так далеко, и уже задавал себе вопрос, не была ли причиной ее резкости кокетливость, так как, например, ей могло показаться, что от нее неприятно пахнет и что это произведет на меня нехорошее впечатление, или же малодушие, если, например, она, ничего не зная о реальной стороне любви, думала, что моя нервная слабость заразна и может передаться в поцелуе.
Она, безусловно, была огорчена тем, что не могла доставить мне удовольствия, и подарила мне золотой карандашик, повинуясь той добродетельной извращенности, что свойственна людям, которые, будучи тронуты нашим вниманием и не соглашаясь на то, чего оно требует от них, все же стараются сделать для нас что-нибудь другое: критик, статья которого могла бы польстить романисту, вместо этого приглашает его на обед; герцогиня не приглашает сноба вместе с собой в театр, но предоставляет ему свою ложу на такой спектакль, когда ее не будет. Того, кто делает самую малость, а мог бы и ничего не делать, побуждает к этому совестливость, желание сделать хоть что-нибудь. Я сказал Альбертине, что, даря мне этот карандашик, она мне доставляет большое удовольствие, не такое, однако, какое я мог бы получить, если бы в тот вечер, когда она прибыла ночевать в гостиницу, она позволила мне поцеловать ее. «Я был бы так счастлив! вам бы это ничего не стоило, я удивляюсь, что вы мне отказали в этом». — «А меня удивляет, — ответила она, — что вам это кажется удивительным. Не пойму, с какими девушками вы были знакомы, если мое поведение могло удивить вас». — «Я в отчаянии, что рассердил вас, но даже и сейчас я не могу сказать, что признаю свою вину. По-моему, это совершенно несущественно, и я не понимаю, отчего девушка, которая так легко может доставить удовольствие, не соглашается на это. Давайте разберемся, — прибавил я, снисходя к ее понятиям о нравственности и вспоминая, как она со своими подругами клеймила приятельницу актрисы Лии. — Я не хочу сказать, что девушке все позволено и что нет ничего безнравственного. Вот хотя бы такие отношения, о которых вы недавно говорили по поводу этой девочки, что живет здесь в Бальбеке, и которые будто бы существуют между ней и одной актрисой: по-моему, это мерзко, так мерзко, что, я думаю, это сочинили недоброжелатели и это неправда. По-моему, такое невероятно, невозможно. Но позволить поцеловать себя, и даже не только это, притом своему другу, — ведь вы говорите, что я ваш друг…» — «Вы — мой друг, но у меня и до вас были друзья, я была знакома с молодыми людьми, которые, уверяю вас, относились ко мне так же дружески. Ну и вот, никто из них не позволил бы себе подобной вещи. Они знали, какую оплеуху получили бы за это. Впрочем, они об этом даже и не думали, жали руки просто, по-дружески, как настоящие товарищи; никто не вздумал бы лезть целоваться, и от этого мы были не меньшими друзьями. Ну, если вы дорожите моей дружбой, вы можете быть довольны, потому что если я вас прощаю, значит, вы мне очень нравитесь. Но я уверена, что вам до меня дела нет. Признайтесь, что нравится вам Андре. В сущности, вы правы, она гораздо лучше меня, ведь она же восхитительная! Ах вы, мужчины!» Несмотря на мое совсем недавнее разочарование, эти слова, такие откровенные, внушили мне большое уважение к Альбертине и произвели на меня впечатление очень успокаивающее. И, может быть, именно это впечатление имело для меня потом важные и досадные последствия, потому что благодаря ему во мне впервые возникло то почти родственное чувство, та моральная сердцевина, которые всегда оставались в центре моей любви к Альбертине. Подобное чувство может быть источником величайших огорчений. Ведь для того, чтобы действительно страдать из-за женщины, надо пережить пору полного доверия к ней. Пока что этот зародыш морального уважения, дружбы оставался в моей душе как начало чего-то нового. Сам по себе он не мог бы помешать моему счастью, если бы он не рос, если бы он застыл в том инертном состоянии, которое не нарушалось весь следующий год, а тем более эти последние недели моего первого пребывания в Бальбеке. Он жил во мне как гость, которого все-таки осторожнее было бы удалить, но которого спокойно оставляют на его месте, настолько безобидным делает его до поры до времени его слабость и его одиночество внутри чужой души.